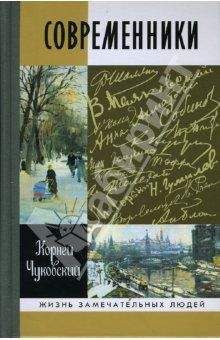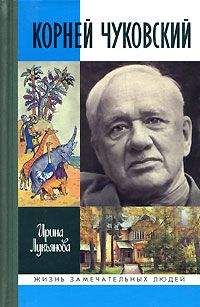Потому-то уже в самые первые месяцы нового, советского режима он без всяких колебаний и оглядок нашел «свое место в рабочем строю» и встал в ряды безвестных «просвещенцев», отдавая все свои огромные знания и убогие стариковские силы делу строительства новой культуры и, так как его талант не угас, вскоре стал одним из популярнейших лекторов в городе. Приближаясь к девятому десятку, этот больной и переутомленный старик завоевал себе новое имя, сделал новую карьеру.
В начале двадцатых годов в Петрограде уже не было такого учреждения, куда не приглашали бы его выступить с лекциями. Оба университета, всевозможные техникумы, школы, курсы, научные и просветительные общества, клубы, больницы, библиотеки, дома просвещения, музеи, и Пролеткульт, и Дом искусств, и Балтфлот — всюду он выступал с величайшей охотой и с неизменным успехом. Читал о Пушкине, о Льве Толстом, о Пирогове, о воспитании детей, о перевоспитании преступников, об этике общежития и, конечно, о своем любимом человеколюбце Гаазе. У него было великое множество тем, но о чем бы он ни читал, всякая его лекция звучала как моральная проповедь, всякая упорно твердила о том, как прекрасна человеческая совесть, сколько счастья в служении добру. О чем бы он ни говорил, в каждой лекции слышался один и тот же неизменный подтекст:
Напутствовать юное хочется мне поколенье,
От мрака и грязи умы и сердца уберечь.
Голос у него был тогда слабый, стариковский, простуженный, но слушали его с таким жадным вниманием, что шепот его доходил до самых далеких рядов.
До чего любили его слушатели, видно хотя бы из того, что в 1921 году в день его рождения к нему пришла делегация от них и поднесла ему белый хлеб — драгоценность в те годы почти легендарная. Это так растрогало и взволновало его, что он тогда же заявил с дрожью в голосе, что считает этот маленький хлебец одной из лучших наград, какие он когда-либо получал в своей жизни.
Учитель Семен Михайлов (Ярославская обл.), прочтя в одном из предыдущих изданий мои воспоминания об Анатолии Федоровиче, прислал мне такое письмо:
«Я один из немногих оставшихся в живых студентов Института живого слова. Я хорошо помню, что некоторые из нас, слушателей литературно-творческого отделения, с нетерпением подстерегали момент, когда в коридоре в распахнутой шубе, с неизменными своими костылями появится Анатолий Федорович Кони. Тогда мы (три-четыре человека) уходили из своей аудитории и шли к „ораторам“. Там, буквально разинув рты, мы слушали Кони. Уважение к нему было безгранично. Он не пользовался никакими конспектами, не употреблял никаких междометий, сидел с полузакрытыми, порою совсем закрытыми глазами и говорил то тихо, то очень громко. Когда он рассказывал о старых судебных процессах, он — я уверен в этом — забывал, что перед ним студенты двадцатых годов, и заново переживал то, что пережил раньше».
«Иногда он водил меня в свою библиотеку, — вспоминает в письме ко мне близко знавшая его художница В. Погорелко (Владимир). — Там стоял письменный стол его матери, перевезенный из Москвы, с недопитым стаканом чая. Правда, чай уже давно испарился. На этот стол Анатолий Федорович клал каждый новый том своих сочинений, как только этот том выходил из печати, и весь стол был уже завален книгами. Мать он очень любил, и смерть ее была для него самым большим горем в его жизни».
С начала революции и до своей последней предсмертной болезни Анатолий Федорович, по подсчету друзей, прочитал около тысячи лекций![83]
В 1921 году ему стало легче работать: по ходатайству студентов Наркомпрос предоставил ему (правда, ненадолго) лошадь и бричку. Кучер этой брички, послушав одну из лекций своего седока, стал посещать их при всякой возможности и, по словам Кони, сказал ему как-то с высоты своих козел: — Ты, брат, я вижу, свеча! (Он произнес по-церковнославянски: свеща!) У меня сохранилось около сотни писем и записочек Кони, хорошо рисующих и его колоссальный, воистину титанический труд, и бытовые условия, в которых он тогда жил и работал. В это время он жил уже не на Невском, где я познакомился с ним, а на Надеждинской улице (ныне улица Маяковского).
«Дорогой Корней Иванович!.. — писал он мне в ноябре 1925 года. — Не могу посетить Вас, ибо совсем „обезножел“ и лишь сижу иногда у крыльца, причем мои домашние смеются, что я пребываю в „Швейцарии“ (в Швейцарии, так как внизу проживал его бывший швейцар, с которым он был издавна дружен. — К. Ч.) — быть может, заглянете? 13 октября исполнилось 60 лет моей служебной, общественной и писательской деятельности. Пора бы и на боковую…
Ваш преданный
А. Кони».
К нему в дом незадолго до этого переехала его старая приятельница Елена Васильевна Пономарева, очень преданный ему человек. Она была когда-то богачкой, чуть ли не миллионершей, и под влиянием Анатолия Федоровича пожертвовала большую часть своих денег на постройку в Харькове Народного дома.
В 1913 году я был у нее вместе с Кони в ее большой квартире на Фонтанке. Она прислала за ним свою карету. Он читал у нее широкому кругу друзей и петербургских юристов свои (еще не появившиеся тогда в печати) «Воспоминания о деле Веры Засулич» и о крушении царского поезда на станции Борки. Собралось человек пятьдесят. Всех угостили полуночным ужином, за которым в честь Анатолия Федоровича было поднято много бокалов и сказано много речей.
Тогда в Елене Васильевне я видел богатую светскую даму, хозяйку большого салона; теперь она превратилась в хлопотливую, очень подвижную старушку, всецело посвятившую себя заботам об Анатолии Федоровиче. Когда, бывало, ни подойдешь к дверям его квартиры (на втором этаже), услышишь экзерсисы и гаммы, исполняемые на разбитом пианино неумелыми детскими пальцами. Это Елена Васильевна дает уроки музыки кому-нибудь из соседских ребят — за самую мизерную плату, ради того, чтобы приобрести для Анатолия Федоровича яблоко или стакан молока. Самое имя его «Анатолий Федорович» она в разговоре со всеми произносила особенным голосом, с благоговением и радостью, словно в этом имени для нее воплотилось все благородное, человечное, что только есть на земле.
Так как у Кони не было телефона и он мог общаться с друзьями лишь при помощи писем, она охотно брала на себя обязанности его секретаря и рассыльного. Многие из тех писем Анатолия Федоровича, которые сейчас передо мной на столе, были принесены мне Еленой Васильевной. Я уже лет двадцать не перечитывал их, и теперь они по-новому взволновали меня.
В то время он еле дышал от болезней; в одном его письме говорится: