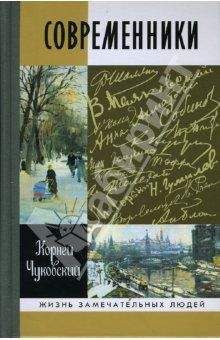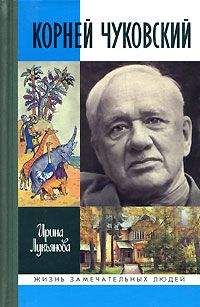Так как у Кони не было телефона и он мог общаться с друзьями лишь при помощи писем, она охотно брала на себя обязанности его секретаря и рассыльного. Многие из тех писем Анатолия Федоровича, которые сейчас передо мной на столе, были принесены мне Еленой Васильевной. Я уже лет двадцать не перечитывал их, и теперь они по-новому взволновали меня.
В то время он еле дышал от болезней; в одном его письме говорится:
«Я страдаю сильнейшим бронхитом и прежними болями в старом переломе бедра…»
В другом письме:
«Мой неврит не покидает меня, и каждая поездка в университет на Васильевский остров своего рода хождение по мукам».
И в третьем письме:
«Здоровье мое плохо. Каждый выход на лекции (а это каждый день, кроме пятницы) причиняет мне невероятную усталость и нервные боли в сломанной 19 лет назад ноге».
И в следующем письме:
«Вчера в университете, после моей двухчасовой лекции, у меня сделался сильный сердечный припадок… Очевидно, что я „переборщил“ в работе…»
Но отказаться от этой работы не мог, так она увлекала его, и он все больше загружал себя ею. В то время я заведовал литературным отделом в Ленинградском Доме искусств, и он прислал мне такую программу:
«Я мог бы прочесть, — писал он мне, — „Об ораторах, судебных, политических“, „О князе В. Ф. Одоевском“, этот писатель теперь именно заслуживает особого упоминания, „Житейские драмы и встречи“, „Общие начала нравственности общежития“, „Taedium vita“[84] и т. д. и т. д».
То есть добровольно взваливал на себя такую работу, которая была бы едва ли под силу троим, будь они железного здоровья. Между тем острой нужды он в то время уже не испытывал. Его бытовые условия улучшились. Но он не позволял себе и подумать о том, чтобы отказаться от лекций.
«Это, — писал он мне в конце 1921 года, — единственное утешение моей настоящей жизни, слабою нитью еще привязывающее меня к существованию вообще. Чтение лекций, духовное и непосредственное общение со слушателями, их сердечное отношение ко мне в университете, „Живом слове“ и других просветительных учреждениях ободряет меня, дает мне силы для работы и заставляет отвлекаться от болезненных воспоминаний… Осужденный через каждые 10 минут присаживаться в изнеможении на какой-нибудь подоконник или тумбу, я буду вынужден бросить все свои более или менее отдаленные лекции, и это нанесет мне неизлечимый нравственный удар».
— Дело в том, — объяснял он, — что я всегда мечтал о профессуре. Едва я кончил Московский университет и получил кандидатскую степень,[85] мне была предложена кафедра. Для двадцатилетнего юноши то была высокая честь — стать профессором в тех самых стенах, которые освящены именами Герцена, Огарева, Грановского! Но меня манила другая работа — насаждение новых судебных порядков, — и я отказался. А теперь, на восьмом десятке, я могу посвятить себя любимому делу, которым я когда-то пренебрег.
Молодежь так и тянулась к нему. Вообще можно смело сказать, что после Октябрьских дней он остался одним из очень немногих уважаемых стариков Петербурга.
В 1926 году, 10 февраля, когда ему исполнилось 82 года, к нему на Надеждинскую пришли с поздравлением десятки самых разнообразных людей. В письме к дочери своего старого друга Елизавете Александровне Садовой он говорил об этом не без гордости:
«Оказывается, было 62 посещения и 41 письмо и 8 телеграмм. По грехам, казалось бы, и довольно».[86]
Среди поздравлявших была группа рабочих; один из них приветствовал его такими стихами:
Когда досталась власть народу,
Впервые ты легко вздохнул.
Ты принял с радостью свободу
И смело ей в глаза взглянул.
Своих заветов не отринул:
Любя Россию, словно мать,
Ты в трудный час ее не кинул,
Остался с нами ты страдать.
В Институте живого слова он вел практические занятия со слушателями, применяя очень своеобразные методы, чтобы научить их искусству ораторской речи — тому искусству, в котором он сам в свое время был недосягаемым мастером. Он учил их судебному красноречию, инсценируя суд. Войдя в ту аудиторию, где происходили занятия, я в первую минуту подумал, что нахожусь в настоящем суде. На главном месте сидел председатель судебной палаты — щуплый юноша лет девятнадцати. Прокурором была девица — с круглым, мягким, добродушным лицом. В стороне, на отлете, за столиком сидел адвокат — красивоглазый, кудрявый брюнет сильно выраженного кавказского типа. А у него за спиной на скамье подсудимых томился с тоскою во взоре застенчивый, миловидный студентик, с девически наивным выражением лица. Все это были ученики Анатолия Федоровича.
Не прошло и пяти минут, как я понял из слов «прокурора», что этот студентик ужасный злодей, так как он утопил в реке Ждановке свою законную жену, для того чтобы она не мешала ему сожительствовать с прачкой Аграфеной.
Так, с педагогической целью Анатолий Федорович инсценировал здесь, перед своими студентами, старинный судебный процесс «по делу об утоплении крестьянки Емельяновой», в котором он когда-то выступал обвинителем.
Видно было, что дело ведется всерьез, что участники «процесса» вошли в свои роли; девушка-прокурор, например, с такой испепеляющей ненавистью глядела на смазливого студента, словно он и в самом деле был мерзавцем, уличенным в бесчеловечном злодействе. Она обрушилась на него с гневной речью, и Анатолий Федорович одобрительно кивал головой. Адвокат тоже вызвал его одобрение. Но председателем судебной палаты он остался очень недоволен, ибо тот не проявил никакой объективности и в своем напутственном слове, в своем резюме, слишком уж явно склонял весы правосудия в сторону Сибири и каторги.
— Вы изменяете роли судьи для роли прокурора! — сердился Анатолий Федорович, словно дело происходило в настоящем суде, и негодующе стучал костыльком.
Столь же театрально, «по Станиславскому», было разыграно учениками Анатолия Федоровича «Дело о подлоге расписки княгини Щербатовой», и как огорчался знаменитый юрист, что он не может обеспечить суду нужного комплекта присяжных! Требовалось двенадцать, а в наличии было только пять или шесть, да и те с великой неохотой исполняли эти молчаливые роли: каждому хотелось быть либо прокурором, либо адвокатом, либо — что еще лучше! — преступником, чувствующим себя центральной фигурой большого процесса, который на самом-то деле успел отгреметь около полувека назад.
После каждой такой инсценировки суда Кони подробно разбирал со своим коллективом произнесенные речи и строго распекал девятнадцатилетних ораторов, если в их речах попадались дешевые, ходовые, трескучие фразы, произнесенные с наигранным пафосом. Он ненавидел риторику, требовал предельной простоты и был немилостив к тем, кто нарушал законы языка.