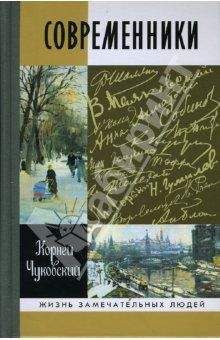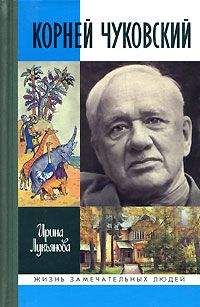После каждой такой инсценировки суда Кони подробно разбирал со своим коллективом произнесенные речи и строго распекал девятнадцатилетних ораторов, если в их речах попадались дешевые, ходовые, трескучие фразы, произнесенные с наигранным пафосом. Он ненавидел риторику, требовал предельной простоты и был немилостив к тем, кто нарушал законы языка.
Педагогическая ценность таких инсценировок была для меня несомненна, и я любил присутствовать на них, так как мне казалось, что методика, применяемая в этих случаях Анатолием Федоровичем, являет собою один из самых верных путей для воспитания судебных ораторов.
Впрочем, обо всем этом я говорю как профан, очень далекий от судейского мира. В суждениях о литературе я чувствовал себя более уверенным, и, должно быть, по этой причине Анатолий Федорович чаще всего обращался ко мне с выражением своих чувств и мнений, имеющих отношение к писательству. У него была чудесная черта: говоря о литературных явлениях, он никогда не умел быть спокойным — они либо восхищали его, либо вызывали в нем гневные чувства.
В 1924 году Публичная библиотека в Ленинграде обнародовала хранившуюся в ее архиве рукопись гончаровской «Необыкновенной истории». В этой рукописи знаменитый писатель пробует обосновать свою ни на чем не основанную уверенность в том, будто Тургенев позаимствовал у него многие образы для своего «Дворянского гнезда». То был, по выражению Кони, «безумный патологический бред». Опубликование этого «бреда» возмутило Анатолия Федоровича и вызвало его бурный протест. Как друг Гончарова он счел своим долгом выступить в защиту его памяти и взобрался ко мне на третий этаж, чтобы прочитать свой, как он выразился, «обвинительный акт» против лиц, обнародовавших эту потаенную рукопись.
Так же взволнованно реагировал он и на такие явления литературного мира, которые были ему по душе. Прочтя статью Горького в защиту жены Льва Толстого, Анатолий Федорович написал мне в январе 1925 года:
«Если возможно, сообщите мне адрес Горького. Я в совершенном восторге от его статьи о Софье Андреевне Толстой и хочу написать ему об этом. Мы так сошлись с ним во взглядах».
Таких писем много, и нетрудно заметить, что при оценке литературных явлений Анатолий Федорович применяет, если можно так выразиться, морально-правовой, юридический, судейский критерий. То же и во всех его статьях. Хотя он откликается в них на самые разнообразные темы — в одной пишет об известном актере, рассказчике сцен из народного быта Иване Горбунове, в другой — о хирурге Пирогове, в третьей — о Достоевском, — но в каждой из них он остается судьей, ставящим этическое начало превыше всего. Поэтому так дорог мне тот приговор, который он именно как юрист, как судья вынес одной моей книжке. Книжка называлась «Жена поэта». В ней по мере своего разумения я пытался разобраться в считавшихся неблаговидными поступках Авдотьи Панаевой, которые причинили столько тяжелых страданий ее другу и гражданскому мужу Некрасову. Книжка вышла в 1921 году. Я с трепетом послал ее Анатолию Федоровичу, и велика была моя нечаянная радость, когда на другой же день я получил от него такое письмо:
«…Придя домой, я оставил всякую работу и принялся за Вашу книжку о жене Некрасова — и не мог оторваться от нее. Говорить о Ваших оригинальных и высокоталантливых выступлениях, попадающих, как сказал бы Горбунов, „прямо в центру“, о Вашей эрудиции в литературно-общественной области — не приходится. Это признано всеми. Но во мне говорит старый судья, и я просто восхищен Вашим чисто судейским беспристрастием и, говоря языком суда присяжных, Вашим „руководящим напутствием“, Вашим резюме дела о подсудимых — Некрасове и его жене. Ваша книга настоящий судебный отчет, и Ваше „заключительное слово“ дышит „правдой и милостью“. Давно не читал я ничего до такой степени удовлетворяющего нравственное чувство и кладущего блистательный конец односторонним толкованиям и поспешно-доверчивым обвинениям.
Сердечно жму Вашу руку.
Ваш А. Кони. Замучила меня бессонница. Лег в час и вот в четыре уже сижу за столом».
В письме были строки, которые кажутся мне и сейчас изумительными:
«Прилагаю свою книжечку. После Ваших книг как-то совестно стучаться с нею в Ваши двери, но уж пустите к себе бедную странницу».
Это пишет знаменитый юрист, прославленный мастер слова, у которого и Гончаров и Тургенев спрашивали литературных советов, пишет безвестному автору непризнанной книги.
Вообще дружественное внимание к людям было, так сказать, специальностью Кони. Среди его писем встречается немало таких:
«…Дочь писателя Павла Михайловича Ковалевского (сотрудника „Современника“ и „Отечественных записок“) Ольга Павловна, живущая в Гатчине, находится в самом тяжелом положении. Извините, что беспокою вас» и т. д. и т. д. и т. д.
«…У меня есть знакомый, сын моего старого сослуживца С. К. Гогеля, талантливый драматический писатель, находящийся в бедственном положении вследствие туберкулеза и отсутствия средств. Я очень хотел бы помочь ему, но Союз драматических писателей сам страдает „голодной нужей“, как писалось в старину. Вы знаете весь литературный мир и его учреждения. Не укажете ли мне, куда можно бы обратиться с ходатайством за бедняка», и т. д. и т. д. и т. д.
Сам больной и смертельно усталый, он, пренебрегая своей собственной болью, неутомимо хлопотал о других.
Очень точно изобразил эту черту его личности писатель и юрист С. А. Андреевский, обратившийся к нему с такими стихами:
Люблю твоих глаз непорочную ясность,
И смелую правду речей,
И добрых деяний святую безгласность
В кругу незаметных людей.
Но я боюсь, что у меня получился слишком пресный и постный образ елейного праведника, вместилища всех добродетелей — не портрет, а скорее икона.
Спешу заверить, что Анатолий Федорович не имел ничего общего с этой утомительно скучной породой людей.
Чудесно сказал о нем один из его старых друзей, адвокат Александр Иванович Урусов:
«Анатолий Федорович — виртуоз добродетели. У других эта богиня скучна и банальна, а у Кони она увлекательна, остроумна и соблазнительна, как порок».[87]
Могу подтвердить, что это было действительно так. У него было несколько неожиданных свойств, которые как будто совсем не пристали суровому судье, исправителю нравов, пекущемуся об искоренении пороков.
И первое свойство — «веселонравие», юмор. Не помню случая, даже в годы его стариковских болезней, чтобы, придя к нему, я не услыхал от него забавной истории о каком-нибудь житейском гротеске. Он был переполнен юмором, совершенно исключавшим какое бы то ни было ханжество.