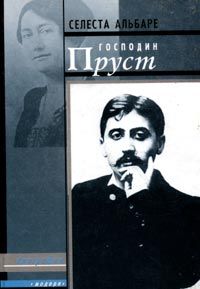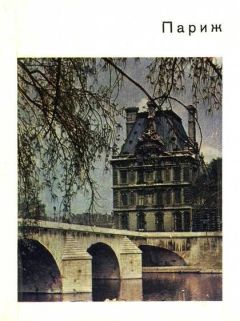Конечно, "Итог" (Summa) Марселя Пруста жил и старел вместе с автором, подобно любому произведению с долгим дыханием. Это отчасти лишает некоторые главные линии определенной чистоты, но зато придает роману особую красоту, свойственную зданиям, которые строились веками и впитали в себя многие стили. В таком замке средневековые башни лишь оттеняют своеобразную прелесть жилых помещений времен Людовика XIII. Несомненно, что интеллект в конце концов стал играть в книге гораздо более значительную роль, чем поначалу хотел Пруст. Он и сам понимал это: "Я чувствовал однако, что этими истинами, которые интеллект извлекает из действительности, не стоит полностью пренебрегать, поскольку они могли бы оправить, пусть и не так чисто, а также внедрить в ум те впечатления, чью вневременную суть и доставляют нам, единую для ощущений прошлого и настоящего - более ценных, но также более редких, чтобы произведение искусства могло быть создано только из них. Я чувствовал, как множество пригодных для этого истин, касавшихся страстей, характеров, нравов, теснились во мне..."
Но, читая Фёйрата, нельзя удержаться от трех возражений. Первое состоит в том, что развитие характеров и все возрастающая мизантропия Рассказчика предусматривались уже первоначальным замыслом, и что время, по мысли Пруста, можно было сделать ощутимым только благодаря таким изменениям. "Я страдаю, как и вы, - писал Пруст одному другу, -видя, что Сван становится менее симпатичным и даже смешным... но искусство - это вечное жертвование чувства истине...
Второе: Тетради показывают нам первоначальный стиль Пруста, точно такой же сухой и рассудочный, как и на некоторых страницах его последних дней. Его черновой набросок часто был плоским. Именно переписывая по многу раз одни и те же пассажи, он добавлял, при нанесении последующих слоев, прозрачность и бархатистость.
Третье: всякий раз, когда у Пруста была возможность ревизовать текст, фразы получают ту же законченность отделки, что и в первом "Сване"; "Германты", полностью переработанные им, своей красотой ничуть не уступают "Свану". И лишь в последних томах, перечитать и выправить которые ему помешала Смерть, имеются "узкогорлые, извилистые и безмерные шопеновские фразы", пассажи, принадлежащие к первой версии и, например, весь конец "Обретенного времени". Так над океаном, покрывающим затопленный им континент, мягко поблескивают в лунном свете увенчанные пальмовыми рощами острова, которые на самом деле - вершины затонувших гор.
Мы знаем, что Баррес сначала диктовал черновые варианты, содержавшие факты, но еще лишенные стиля. "А теперь, - обращался он к Таро, - сделаем нашу музыку..." И тогда он окружал какую-нибудь довольно банальную фразу красивыми и звучными обертонами, которые и создали из него Барреса. То же самое с Прустом. Ничто не позволяет предполагать, будто к концу жизни он забыл свое волшебство, просто Смерть явилась слишком рано, не позволив ему "сделать музыку" из своих последних набросков. Если бы не война, его книга, увидев свет в черновом варианте, была бы короче и ближе к классическому идеалу, но тогда ей недоставало бы той чрезмерности и избыточности, которые и составляют ее уникальность.
МИР И ПРЕМИЯ
11 ноября 1918 года Марсель написал госпоже Строс: "Мы слишком много думали вместе о войне, чтобы не сказать себе в вечер Победы нежное слово, радостное, благодаря ей, грустное, памятуя о тех, кого мы любили и кто не увидит ее. Какое великолепное allegro presto в этом финале после нескончаемой медлительности в начале и во всем последующем. Какой драматург - Судьба, или человек, ее орудие!.." В тот день его заинтересовали скопления народа, позволив лучше представить революционные толпы: "Но, сколь бы ни было велико счастье этой огромной, нежданной победы, приходится оплакивать стольких мертвых, что подобная веселость - не самый лучший способ отпраздновать ее. Невольно вспоминаются стихи Гюго:
Милый друг, счастье строгости полно,
И радость смеха далее, чем слез...
(Я не уверен насчет "милого друга", это из последней сцены Эрнани ...)[230]
Он был слишком умен, чтобы не предчувствовать опрометчивости этой радости: "Всем этим мирным договорам я предпочитаю те, которые ни в чьем сердце не оставляют злобы. Но, поскольку не о таком договоре идет речь, может, было бы лучше, едва он даст законный повод для мести, сделать его исполнение вообще невозможным. Может, это как раз такой случай. Однако я нахожу, что президент Вильсон довольно мягок, потому что по вине самой Германии речь не может, да и не могла идти о настоящем примирении; я бы предпочел более суровые условия; меня немного пугает немецкая Австрия, увеличивающая Германию, как вероятная компенсация за потерю Эльзаса и Лотарингии. Но это лишь предположения, и, может быть, я просто не понимаю, что уже и так все хорошо. Когда-то генерал де Галифе сказал о генерале Роже: "Он говорит хорошо, но слишком много". Президент же Вильсон говорит не слишком хорошо, но слишком много..."
Его личная жизнь в то время, как и всегда, была в расстройстве: "Я ввязался в безысходные и безрадостные сердечные дела, которые вечно приносят мне лишь усталость, страдание, бессмысленные расходы..." Чтобы покрыть свои расходы, он был непрочь продать пыльную груду ковров, буфетов, кресел, люстр, загромождавших его столовую: "Надеюсь, количество возместит посредственное качество, а вздорожание некоторых материалов, таких как кожа и хрусталь, возможно, позволит получить хорошую цену. Я совершенно не знаю, можно ли что-нибудь выручить за бронзу. Я бы тогда избавил свою гостиную от той, которая мне не нравится. Наконец, у меня несметное количество столового серебра, которое мне ни к чему, поскольку я питаюсь в "Рице", а чаще всего лишь пью кофе с молоком в постели..." Затем (ибо для мазохиста несчастий всегда хватает, потому что он сам их себе создает) его настигло роковое известие: в сентябре 1918 года его тетка продала дом на бульваре Осман. Куда ему податься в послевоенном Париже, где не хватало жилья? Со здоровьем было плохо. Чтобы заснуть, он принимал до полутора граммов веронала в день, из-за чего просыпался совершенно оглушенным, почти потеряв дар речи. Кофеин приводил его в чувство, но приближал к смерти. В его ли состоянии было вновь столкнуться с молотками обойщиков?
Тем не менее, он передал второй том своей книги "Под сенью девушек в цвету" Гастону Галимару, и тот готовился выпустить его одновременно с другой его книгой, озаглавленной "Подражания и прочее", которая содержала тексты, ранее опубликованные в журналах и обозрениях. Второй том (позже разделенный на три) был таким объемным, что представлял собой глыбу необычайно сжатого текста, притягательного своей странностью и путающего плотностью.