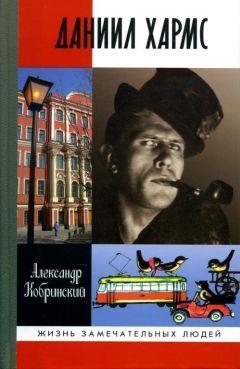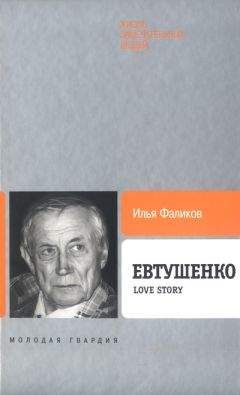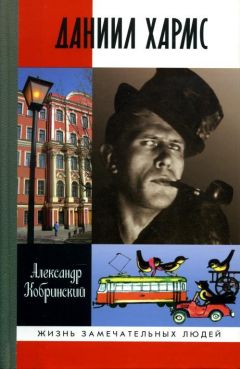«От страха сердце начинает дрожать, ноги холодеют и страх хватает меня за затылок. Я только теперь понял, что это значит. Затылок сдавливают снизу и кажется: еще немного — и сдавят всю голову сверху, тогда утеряется способность отмечать свои состояния, и ты сойдешь с ума. Во всем теле начинается слабость, и начинается она с ног. И вдруг мелькает мысль: а что если это не от страха, а страх от этого. Тогда становится еще страшнее».
Страх как феномен человеческого состояния многократно становился предметом художественного изображения в литературе. В русской литературе начала XX века тема страха, завладевающего человеком и его сознанием, встречается У А. Блока, В. Брюсова, А. Белого, Л. Андреева, Б. Пильняка, С. Кржижановского, В. Набокова. Ощущения героя хармсовского рассказа в чем-то близки ощущениям героя написанного годом раньше булгаковского «Морфия», мечущегося между надеждой и обреченностью. Интересно, что этот рассказ Хармса на десять лет опередил повесть Зощенко «Перед восходом солнца», в центре которой — также внутреннее психологическое состояние главного героя-повествователя, а главная задача — вывод на поверхность ощущений подавленности и меланхолии, обнажение их причин — и как следствие — избавление от них. Думается, что «Я один...» есть тоже в какой-то мере способ терапии сознания, ибо то, что оказывается на бумаге, словно опредмечивается и из чисто внутреннего фактора превращается частично во внешний. А это значит, что уже не так страшно.
Второй рассказ «Мы жили в двух комнатах...» дает читателю возможность ощутить степень авторского одиночества в Курске. По многим признакам этот текст уже опосредованно отстоит от курской реальности: если в первом фразы типа «Хоть бы Александр Иванович пришел скорее!» приближают повествование к дневниковому, то здесь вместо имени Введенского речь уже идет о некоем «приятеле», которого практически никогда не бывает дома. Действительно, общительность Введенского давала о себе знать и в Курске: он постоянно гулял со знакомыми женщинами, ходил в гости, находил себе компании для преферанса — и зачастую приходил домой только ночевать. Хармс оставался один, выходя из дома только на почту и за продуктами. Он любил быть один, но примерно через месяц одиночество надоело ему. Рассказ при этом посвящен не столько тяготам скуки и одиночества, сколько движению текста от потерь бытовых к потерям языковым. Пространство как бы смыкается вокруг героя-повествователя, ограничивая его жизненное пространство комнатой; затем он лишается еды («Были дни, когда я ничего не ел»), не может ничего делать (акцент на невозможности начать работу) — и всё заканчивается неотступным ощущением, что он забыл одно-единственное, но очень важное слово. Герою кажется, что это слово начиналось на букву «р» — и рассказ завершается тем, что он сочиняет целый ряд слов на эту букву, распевая их во время приготовления кофе. Но это слово ускользает от него точно так же, как ускользала нить творчества.
Несмотря на такие трудности, Хармс написал в Курске еще несколько произведений. Среди них — два трактата «о числах» (один из них датирован 2 августа 1932 года — это «Бесконечное — вот ответ на все вопросы...»), первая редакция стихотворения «Подруга», законченного лишь через год, и утраченное стихотворение «Трава». В Курске был начат «Дон Жуан».
Своими творческими удачами и неудачами Хармс в письмах почти ни с кем не делился, в этом смысле Л. Пантелеев был исключением. Именно благодаря хармсовскому письму к нему от 10 августа 1932 года мы можем судить об авторском отношении к квазинаучным «трактатам», место которых в творчестве Хармса до сих пор никак не определено, более того — исследователи вообще, как правило, стараются осторожно обходить эту тему. А ведь произведений такого рода не так уж и мало у Хармса: помимо названного трактата о бесконечном имеются «трактаты» «Поднятие числа», «Числа не связаны порядком...», «Cisfinitum. Письмо к Леониду Савельевичу Липавскому. Падение ствола» и др. Эти произведения представляют собой причудливую смесь научной терминологии, вполне серьезной логической и математической проблематики — и свойственной Хармсу игры с повествованием. Недаром сам Хармс в письме Л. Пантелееву из Курска называл свою работу над этими трактатами «деятельностью малограмотного ученого», в результате которой он стал «смахивать на „естественного мыслителя“, да вдобавок еще естественного мыслителя из города Курска».
Об этих «естественных мыслителях», совершенно необычном типе людей, которых Хармс «коллекционировал» еще с 1920-х годов и которые во многом «подсвечивали» его собственный мир, лучше всех рассказал в своих воспоминаниях Всеволод Петров:
«Это была совершенно особая категория его знакомых, по большей части найденная случайно и где придётся — в пивной, на улице или в трамвае. Даниил Иванович с поразительной интуицией умел находить и выбирать нужных ему людей.
Их всех отличали высоко ценимые Хармсом черты — независимость мнений, способность к непредвзятым суждениям, свобода от косных традиций, некоторый алогизм в стиле мышления и иногда творческая сила, неожиданно пробуждённая психической болезнью. Всё это были люди с сумасшедшинкой; люди той же категории, из которой выходят самодеятельные художники примитивисты (Naive Kunst), нередко превосходные, или просто народные философы-мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда приятны. Даниил Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьёзно и деликатно.
Я думаю, что его привлекал в первую очередь его алогизм или, вернее, особенная, чуть сдвинутая логика, в которой он чувствовал какое-то родство с тайной логикой искусства. Он рассказывал мне, что в двадцатых годах, в пору бури и натиска движения обэриутов, всерьёз проектировал „Вечер естественных мыслителей“ в Доме Печати. Они бы там излагали свои теории.
Впрочем, в те годы, когда я близко знал Даниила Ивановича (Петров познакомился с Хармсом в 1938 году. — А. К.), его интерес к „естественным мыслителям“ стал невелик. Должно быть, он уже взял от них то, что они могли ему дать. Новых „мыслителей“ он уже не искал. Но кое-кто из прежних ещё появлялся в его доме.
Я помню доктора Шапо, который, пожалуй, был скорее просто милым чудаком, чем „мыслителем“.
Помню добродушного и болтливого Александра Алексеевича Башилова. Он неизменно раза два в год попадал в психиатрическую больницу и выходил оттуда со свидетельством, где, как он уверял, было написано, что „Александр Алексеевич Башилов не сумасшедший, а вокруг него все сумасшедшие“.