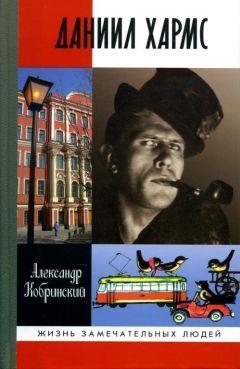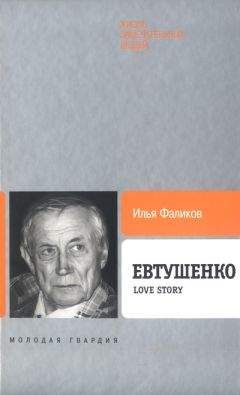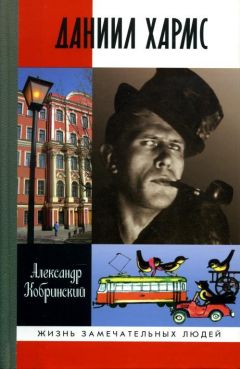Башилов был племянником управдома и думал почему-то, что дядя покушается на его жизнь. Однажды управдом вместе с дворниками скидывал с крыши снег и попал прямо на стоявшего внизу Александра Алексеевича. Тот, чуть ли не по пояс в снегу, возмущался, кричал и требовал, чтобы это прекратилось, но отойти в сторону не додумался.
Помню молчаливого и мрачного Рундальцева; этот был совсем в другом роде. Он обладал способностью просидеть целый вечер, не проронив ни слова, и только обводил всех тяжёлым взглядом.
Люди ищут и видят в других только то, что в какой-либо мере свойственно им самим. Даниил Иванович тянулся к „естественным мыслителям“, потому что в своей собственной психике знал и чувствовал сдвиги, решительно отличающие поэта от мира так называемых нормальных, то есть попросту нетворческих людей. Обладая принципиальным и ясным умом, Даниил Иванович, я думаю, ценил в себе эти сдвиги; ему наверное казалось, что именно эти сдвиги помогают реализовать его творческий дар и обостряют его поразительную интуицию, похожую на ясновидение.
Только в отличие от бедных „мыслителей“, которыми владело безумие, Даниил Иванович сам владел и своим безумием, умел управлять им и поставил его на службу своему искусству».
С хармсовскими «естественными мыслителями» был немного знаком и друг Хармса искусствовед Николай Харджиев. О Башилове он вспоминал так: «С Башиловым я часто встречался, когда жил у Хармса. Этот маленький человек неопределенного возраста искусно расписывал деревянные кубики, привлекавшие внимание ритмичным движением отвлеченных цветоформ. Кубики Башилова нравились всем, даже Малевичу.
Менее удачны были его портреты, натуралистичные и безжизненные. Он нарисовал Хармса и меня.
— Плохи наши портреты, — сказал Хармс. — Пусть из расстегнутой рубашки Николая Ивановича высовывается изба, а у меня на лбу нарисуй „кулатыш“.
Это заумное слово Хармс заимствовал из книжки о рисунках сумасшедших. Объяснить значение „кулатыша“ он не мог, и Башилов нарисовал на лбу нечто вроде спичечной коробочки. Он пририсовал избу к моей рубашке, но оба портрета остались такими же безжизненными.
Башилов считал себя и лекарем. Он лечил слабоумных, заставляя их всасывать носом сливочное масло. Масло смягчало и без того размягченные их мозги. Как это ни странно, у Башилова были благодарные пациенты».
По свидетельству Я. С. Друскина, переданному М. Мейлахом, ему запомнилась картина Башилова «В ожидании ненастной погоды», на которой был изображен господин, ослепительным полднем сидящий на скамейке с зонтом в руках. Друскин, кроме того, вспоминал, как Башилов уже в конце 1930-х годов давал Хармсу советы в отношении его семейной жизни: «Ты, Даня, когда пришел с работы — если есть что сказать Марине, говори, а если нет — молчи» (можно только догадываться, с какой «работы» приходил Хармс в болезненном сознании Башилова). Наконец, слушая радио, Башилов возмущался, полагая, что передают украденные у него мысли.
И еще несколько харджиевских штрихов к теме «естественных мыслителей» Хармса:
«Еще один монстр — безумный изобретатель. Он жил в огромной комнате (кажется, на Литейном), с огромными окнами, витринами бывшего магазина, занавешенными тяжелыми черными тканями. В своей безвоздушной комнате изобретатель работал над каким то таинственным проектом, который, по словам Хармса, был основан на еще не известном динамическом принципе. Увидев Хармса, еще ничего не сказавшего, изобретатель начинал хохотать. Он считал Хармса даже не шутником, а шутом, который говорит только смешное. Вступить в беседу с этим хохочущим идиотом было невозможно. Все, что ни скажет Хармс, доводило его до смехового припадка.
Зато его подруга была безмолвна, как рыба. Она неприязненно смотрела на нас своими водянисто-бесцветными глазами и ни разу не улыбнулась.
После визита к изобретателю состоялась встреча с художником Эйснером.
— Вам безусловно понравится одна из его картин, — сказал Хармс.
Худой и высокий, горбоносый и усатый, он имел сходство с Дон Кихотом. Но на нем была не кираса, а серая милицейская форма.
Он служил в милиции (в качестве художника!). Подобно изобретателю, он жил в огромной комнате, перегороженной старинными шкафами на отдельные уголки.
Он представил нас своей супруге, немолодой грузинке, с какой-то жирной улыбкой на нарумяненном лице. На груди — гранатовое ожерелье, на пальцах — золотые кольца с изумрудами и сапфирами.
— Она очень сладострастна, — сказал Эйснер. Но супруга нисколько не обиделась и продолжала любезно улыбаться. Он любил игру слов и изрекал чудовищные каламбуры и слоговые перевертни: вместо „журфикс“ — „фиржукс“.
В одном из полутемных уголков, за большим шкафом, ютился деревенский юнец, боявшийся людей. Эйснер хвалил его рисунки, замечательные, но однообразные. Он рисовал все деревянное — избы, бревна, заборы, рисовал не предметы, а, так сказать, их деревянность. Эйснера он явно ненавидел и прятался за шкафами, как неприрученный звереныш.
Эйснер гордился своими раритетами, одним из наиболее им ценимых была роскошная коробка, полученная одной из его родственниц на придворном балу по случаю коронации Александра II. В этой коробке еще доживали три конфеты 70-х годов XIX столетия.
Мы беседовали с Эйснером и о живописи. Он сказал, что находит большие колористические достоинства в испражнениях кошек и собак.
— Об этом я написал книгу, — сказал Эйснер. — Уверен, что мои наблюдения будут полезны всем художникам.
Однако самому А. П. его наблюдения не помогли, все его картины были совершенно бездарны. Кроме одной: великолепное кресло с красной тканью, одиноко стоящее на пустынном морском берегу. Оно было таким же таинственным, как вещи в метафизических композициях великого Кирико.
Именно эту картину имел в виду Хармс».
Сколь запутанной и сложной ни была бы тема, сколь ни угрожающими выглядели бы нагромождаемые в рукописи хармсовского трактата формулы — всегда остается иронически-пародийный подтекст, всегда автор как бы отстраняется от того, что пишет. И почти всегда объектом описания становится не только решаемая проблема, но и сам процесс письма. В конце концов, даже после самого серьезного философского (или квазифилософского) рассуждения писатель не забывает поднять голову, увидеть неприглядную окружающую реальность и посмеяться над самим собой. Так строится трактат «Бесконечное — вот ответ на все вопросы...», в котором поэтико-философское исследование проблемы одно- или двунаправленности бесконечного ряда (в связи с температурным абсолютным нулем) постоянно прерывается вот такими вставками: «Я написал это на бумаге, перечитал и написал дальше...»; «Я записал это все, перечел и стал думать так...» и т. п. Хармсу важно, чтобы при всей «учености» философических выкладок потенциальный читатель представлял бы себе сам процесс развертывания текста — как будто он рождается прямо перед его глазами, сходя с пера в реальном времени. И тем самым — не упускал пронизывающие его иронические искорки, которые в конце разгораются в пожар, уничтожающий всякий научный пафос: