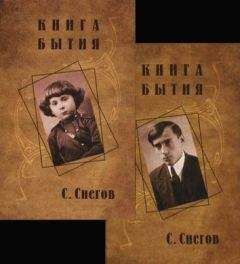Помню, я весело хохотал над этой остроумной оценкой — но убедительных возражений не подобрал.
И сейчас не сумею их предъявить.
Итак, я уже сказал, что главным занятием в нашей школе была общественная работа.
Я не раз поражался количеству общественных постов, какое можно воздвигнуть на пустом месте. Каждый ученик, если он не совсем лентяй и недотепа, тащил на себе ворох школьных нагрузок. Но чемпионом по числу добровольных и предписанных общественных назначений был, конечно, я.
Даже под страхом казни не припомню и трети того, что числилось за мной и на мне. Председатель ячеек МОПРа и безбожников, стенкор и редактор газеты, член школькома, Осоавиахима,[23] покровитель животных, борец за химию, за индустриализацию, за эмансипацию (женщин, естественно), за ликвидацию неграмотности, за городское садоводство, за чистоту школьных помещений, за ежедневную уборку школьного двора… В седьмой группе (выпускном, стало быть, классе) у меня была двадцать одна общественная нагрузка — я составил тогда полный список и навек запомнил количество ежедневно творимых общественных подвигов. Я гордился своим трудом, своей неиссякаемой работоспособностью, своей выдающейся сознательностью. И мной гордились — и ставили меня в пример.
Моя общественная деятельность все очевидней приближалась к безбрежности, но одной нагрузки мне все-таки не хватало (эта несправедливость острой иглой вонзалась в мое самолюбивое сердце). Я был только членом школькома, а не его председателем. Самый важный в школе общественный пост занимала семиклассница Циля Лавент.
Я знал, что главенство в школькоме личило мне гораздо больше, чем ей, — это понимали все мои друзья, все учителя. Но на каждом выборном собрании предпочитали ее — самую умную, самую спокойную, самую деловитую девочку нашей школы. Вероятно, и одну из самых миловидных — но мы, ослепленные великолепной Фирой Володарской, и отдаленно не замечали скромной красоты председательницы школькома…
Моя страсть к общественным обязанностям не пережила семилетки. Видимо, это была разновидность неизбежной детской болезни, истерзавшей организм и после выздоровления оставившей стойкий иммунитет. С седьмого класса и уже до смерти я больше не стремился общественно выделяться. Впрочем, иногда смутные мечты о чем-то подобном пробредали в разгоряченной голове — но в реальность не претворялись. Моя неприязнь к общественным нагрузкам стала темой для дружеских острот. Больше того: иногда она даже вызывала явное — и тоже общественное! — сочувствие.
Забавный случай произошел вскоре после моего освобождения (в конце сороковых). Пока я был в лагере, ни о каких общественных нагрузках речь идти не могла — не в коня корм. Заключенных не удостаивали права носить почетное социалистическое ярмо. Заключенным я уже не был — и на меня обрушился груз расписанных внеслужебных обязанностей. Я изобретательно отбивался — но сил не хватало.
В энерголаборатории, где я был руководителем тепло-контроля и автоматики, меня избрали в члены месткома. Спустя год, на очередном перевыборном собрании, председатель — освобожденный, конечно (он собирал членские взносы и блуждал по комнатам — ничего кроме) — огласил перечень тех, кто посещал обязательные заседания (за год их набиралось, наверное, штук тридцать).
— А у начальника нашей теплолаборатории катастрофа, — скорбно объявил он. — Сергей Александрович всего один раз присутствовал на месткоме. И никаких оправданий своему неглижированию не нашел. Я считаю, мы должны потребовать у него честного объяснения, почему он пренебрегает своей важнейшей обязанностью.
Собрание зашумело: всех интересовало, как я оправдаюсь. Я вышел на трибуну и объяснил, что мне просто не повезло: заседания месткома назначались на те дни и те часы, когда шли срочные наладочные работы или когда я уходил на производственные объекты, где монтировалась наша автоматика.
Собрание опять зашумело: мои оправдания прозвучали не очень убедительно. Кто-то даже предложил поставить мне на вид — за несерьезность.
Потом зачитали список кандидатов в новый местком — прозвучало и мое имя. Я попросил самоотвод, выставив вместо себя отличного молодого инженера-тепловика. Самоотвод поставили на обсуждение — он оказался отличной темой для получасовых прений. В результате просьбу отвергли — и моя фамилия прочно утвердилась в списке для тайного голосования. Это была новая демократическая мода — уже одно словечко «тайное» покоряло, в нем слышалось приобщение к чему-то очень важному и настолько ответственному, что его надо было держать в абсолютном секрете.
Разъяренный, я поднялся и крикнул, не выходя к трибуне:
— Если вы за меня проголосуете, то выберете абсолютно пустое место. Торжественно обещаю ни разу не присутствовать ни на одном из заседаний!
На этот раз в шуме, покрывшем мои слова, было больше веселья, чем осуждения моей общественной несостоятельности.
Председатель счетной комиссии объявил результат тайного голосования. Прежний месткомовский лидер получил больше двух третей голосов — он, недавно неплохой инженер, был просто рожден для общественной деятельности, это заслуживало признания. Остальные кандидаты довольствовались меньшим.
Затем последовала торжественная пауза.
— А за Сергея Александровича — единственного! — проголосовали все присутствующие. Против — один голос, вероятно, его собственный.
Раздался такой взрыв хохота, что я почти примирился со своим избранием. Это был смех особого рода, я слышал его впервые — не столько веселый, сколько зло иронический. Мы хохотали до усталости.
На заседаниях месткома, сколько помню, я так ни разу не побывал.
Все это произошло примерно через четверть века после школы — я уже полностью выздоровел от тяги к публичному выпендриванию. Но в седьмой группе меня трясла судорога общественного энтузиазма.
Она меняла свою интенсивность: одни нагрузки меня захватывали, другие я только исполнял — по возможности, аккуратно. В то время пренебрегать обязанностями было выше моих сил.
Мама иногда удивлялась сыновней старательности: «В тебе больше немецкой крови, чем отец тебе передал!» Не знаю, насколько определяющей была генетика, но исполнительность моя больше зиждилась на хвастовстве.
Главной страстью моей общественной души была, конечно, ячейка МОПРа. За тот год, что я ее возглавлял, не было не только срыва заседаний — даже минутных опозданий (исключение допускалось одно — для Фиры). Я сам приходил загодя. И вопросы мы решали важнейшие. Где раньше произойдет революция — в Индии или Германии, во Франции или в Америке? Какой она будет — кровавой или бескровной? Только ли братская кровь прольется в далеких странах — или нужно будет добавить свою? Мы всегда единогласно постановляли, что не останемся в стороне от забугорных классовых битв, мы рвались в бой.