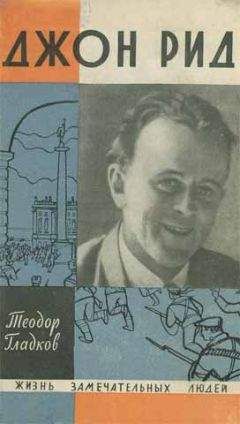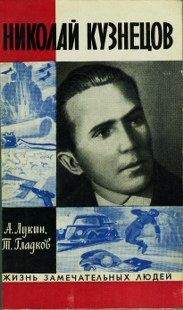Как только Рид узнал о возрождении «Мэссиз», он немедленно отправился к Истмену с толстой папкой рукописей. Из них тот и отобрал «Куда влечет сердце». Тема этого раннего рассказа почерпнута Джеком из жизни нью-йоркского «дна». Сюжет предельно незамысловат. Девушка из дешевого дансинга, оказывается, имеет какие-то идеалы, какие-то стремления, у нее могут быть светлые чувства и привязанности. Сколотив немного деньжонок, она едет в Европу, чтобы собственными глазами увидеть дом Шекспира в Стратфорде и побродить по Лувру.
Рассказ написан мастерски, в нем впервые в полный голос дал себя знать литературный талант Рида. Но он свидетельствует и о другом: что молодой журналист уже резко критически относился к капиталистической действительности, увидел черную несправедливость мира, в котором жил, и не собирался ему прощать попрания самого дорогого — человеческой личности.
Опубликование рассказа имело для Рида огромное значение. Наконец-то он получил трибуну, с которой мог свободно излагать свои взгляды! В «Мэссиз» Джек быстро стал полноправным членом дружного сообщества. Именно здесь его талант получил признание людей, которые разбирались в этом лучше кого бы то ни было в Америке.
Именно Джеку было оказано величайшее доверие — ему поручили составить лозунги «Мэссиз», которые, после того как получили общее одобрение, набирались под титулом во всех номерах.
Естественно, что эти лозунги выражали журналистское кредо и самого Рида. Через четыре года, уже социалист и революционер, Джек вырос из детских штанишек этих четырех принципов, но в свое время они послужили ему надежной отправной позицией.
Вот эти лозунги:
«Искать подлинные причины»;
«Против косности и догм»;
«Печатать все то, что слишком правдиво для «денежной» прессы»;
«Не угождать никому, даже своим читателям».
Невозможно сравнить коммунистическое мировоззрение Рида 1918 года с розовым радикализмом первых лет его журналистской деятельности. Многое из написанного для «Мэссиз» казалось потом ему самому смешным и незначительным. Но этим четырем принципам, как присяге, он не изменял никогда.
Тринадцатый год столетия стал для Джека Рида поистине счастливым. Он обрел свою линию (ту самую, о которой так много говорил ему Стеффенс), обрел друзей, обрел трибуну. Незаметно для него самого пришел и успех, и не только в среде восторженной богемы, готовой каждодневно открывать гениев. Наконец в этом году к нему пришла первая настоящая любовь.
Мэбел Додж была намного старше Джека — у нее был почти взрослый сын. Она была красива, умна, обаятельна, образованна. Кроме того, она принадлежала к числу женщин, для которых умение добиваться своего заменяет счастье.
Влюбившись в Джека, она без особого труда влюбила его в себя. Для него Мэбел была олицетворением того мира прекрасного, к которому всегда стремилась его душа романтика и эстета.
Мэбел ненавидела Америку и предпочитала жить на своей вилле во Флоренции. Штаты были для нее страной уродливых машин и низменного делания денег. Миссис Додж предпочитала не задумываться над тем, что только деньги, которые она так презирала, и дают ей возможность брать от мира все прекрасное. А миссис Додж была богата, по-настоящему богата. Именно из-за этих денег Джек не решался претендовать на руку самой прелестной женщины Нью-Йорка, довольствуясь тем, что ему принадлежало ее сердце.
Дом Мэбел Додж на Пятой авеню слыл самым блестящим литературно-артистическим салоном в городе. В нем бывали люди самых различных общественных слоев, подчас глубоко враждебные друг другу: миллионеры и искатели приключений, музыканты и светские львицы, поэты и анархисты.
Разумеется, став возлюбленным миссис Додж, Джек стал и завсегдатаем ее салона. Его левые взгляды пока еще отлично уживались с шелковыми обоями на стенах фешенебельного особняка.
Весной 1913 года в жизни Джека Рида произошло событие, разом оборвавшее ее прежнее безмятежное течение: в салоне Мэбел Додж он встретился с человеком необыкновенным.
Как обычно, в тот вечер гостиная была заполнена самой разношерстной публикой. Во всех уголках то вспыхивали, то затихали страсти. Кто-то нараспев читал белые стихи, кто-то импровизировал на фортепьяно. Переходя от одной группы к другой, хозяйка умело и деликатно дирижировала собранием. Уютно примостившись в мягком кресле, Рид думал о чем-то своем, машинально перелистывая взятую наугад с полки книгу.
И вдруг по залу пронеслось: «Приехал Билл Хейвуд». И сразу все заговорили — с подчеркнутой независимостью, неестественно оживленно. Так бывает всегда, когда люди толпы, великосветской или уличной, хотят скрыть острый интерес к чему-то будоражащему, но, в сущности, далекому и непонятному. Риду случалось видеть нечто подобное в вагонах поездов дальнего следования, когда среди пассажиров вдруг узнавали чемпиона по боксу или знаменитую актрису.
Но человек, своим появлением внесший сумятицу в салон Мэбел Додж, не был ни чемпионом по боксу, ни популярной актрисой, ни модным баптистским проповедником, ни поэтом со скандальной славой. И все-таки его действительно знала вся Америка.
Он был рабочим лидером.
Уже своей внешностью Хейвуд поразил воображение Рида. Это был мужчина огромного роста и богатырского сложения. Дешевый пиджак, явно купленный в магазине готового платья, едва сходился на могучем торсе. Грубое, словно вырубленное неуклюжим топором деревенского плотника, лицо Хейвуда было испещрено шрамами. На месте правого глаза — черная повязка. Одно ухо будто кто-то оторвал, а потом не очень умело пришил на место. (Так оно и было на самом деле. Хейвуду его оторвали, когда он один ввязался на улице в драку с шестью полисменами. Потом ухо пришил в участке полицейский врач. По лаконичным словам самого Билла, на это потребовалось всего семь стежков…)
Хейвуд стоял в дверях, весело буравя присутствующих своим единственным глазом. В кругу этих, в сущности, совершенно чуждых ему людей он и не думал теряться.
Мэбел поспешила к нему навстречу, подхватила под руку, оживленно затараторила:
— Леди и джентльмены, позвольте представить вам мистера Вильяма Хейвуда, впрочем, более известного под именем Большого Билла…
Джек не заметил, как встал со своего кресла, как сунул куда-то забытую вмиг книгу, как очутился возле Хейвуда.
Не только он, все присутствовавшие прекрасно знали необычайную жизнь этого человека, чье имя, сопровождаемое тысячью проклятий, не раз попадало на страницы газет. Президент Рузвельт однажды назвал его «нежелательным гражданином».