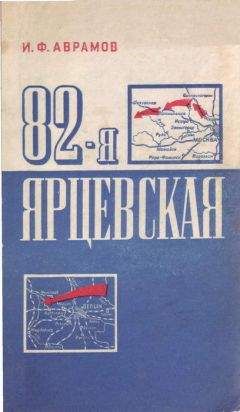- От доченьки тебе поцелуй. Мама пирожки с картошкой прислала. Еще тепленькие. Как ты?
- Как всегда. По-старому.
Вера оглядывается, страшась прикоснуться к чему-нибудь, чувствует себя неуютно. Я понимаю, все ее предосторожности справедливы: палата наша для больных с открытой формой туберкулеза. Но на сердце тяжесть, обида. Сидит минут десять - пятнадцать. Потом я говорю:
- Спасибо, что пришла...
- Что тебе еще принести? Хочешь яблоки?
- Не надо. Нас хорошо кормят - на убой. Ты, в общем, иди, а то поздно. Пока доедешь до Орехова...
- И правда... Я в следующее воскресенье опять приеду. - Снова мягко прикоснулась рукой к одеялу, улыбнулась всем.
Она спешит покинуть палату. Вижу ее упругую спину, кудряшки, за которыми проглядывает белая шея. Закрыла за собой дверь. Я потянулся к тумбочке, взял рамку с фотографией дочери, здесь ей около годика. Большие глаза с удивлением смотрят на меня, будто спрашивают: а кто ты? Пухлые ножки в пинетках, в волосиках бантик. Ищу свои черты - не нахожу. Сердце мое спокойно - отцовских чувств не испытываю. Просто приятно смотреть на малышку, такую беспомощную...
* * *
Меня перевели в полковничью палату. Светлая, в два окна, с зеркалом в полстены - бывший будуар, что ли? Нас трое. Мы рассмотрели друг друга, познакомились и ушли в молчание, в котором не было ни тишины, ни покоя...
У окна лежит полковник Васильев. Он южанин, часто стоит спиной к нам, ждет солнца и, когда оно появляется, что-то едва слышно напевает. Между ним и мною - полковник Пономаренко, худой, с синюшным лицом, с тяжелым кашлем по утрам: он постоянно сплевывает мокроту в платок, рассматривает ее и время от времени кричит: "Сестра, у меня кровь!"
В начале июня мою койку передвинули поближе к окну, а полковника Пономаренко отгородили от нас ширмой; за нее носили кислородные подушки и все чаще и чаще заглядывали врачи. Васильев перестал ловить солнце. Тишина в палате стала еще глуше.
Пономаренко умер на рассвете, когда мы спали.
Васильев в полосатой пижаме лежал на неразобранной постели, молчал. После обхода он лег на бок, ко мне лицом.
- Тимаков, расскажи о себе. У меня правило - знать тех, с кем сталкивает жизнь. Поймешь другого - разберешься и в себе.
- О чем рассказывать?
- Давай, давай, Тимаков, а то тоска на душе. О жизни давай. Сам я на трех войнах был; начал с германской, семнадцатилетним. Гражданскую, как говорится, от пупа до пупа... И эта...
Поначалу меня что-то сковывало - скорее всего, глаза Васильева, очень уж заинтересованно глядевшие на меня. Постепенно находились нужные слова. Память моя как бы расковывалась, и то, что тяжким грузом лежало за семью печатями, рвалось наружу - откровенно, с неожиданными подробностями, с детства и до мгновенья, когда я поднял голову, чтобы увидеть солнце и вместе с Рыбаковым порадоваться наступившей весне.
Васильев слушал, серьезно слушал.
Пришло время обеда, потом наступил долгий час тишины. Я лежал с открытыми глазами.
Васильев сбросил с кровати ноги в грубошерстных носках ручной вязки.
- А мы ведь с тобой однополчане!
- Как это?
- А так, браток. Мы епифановцы. Под Заечаром мой полк был на правом фланге, а твой на левом. Когда погиб наш Епифанов, тяжело было. Да война штука такая, что на долгие переживания времени не отпускает. Бои за боями... Марши и снова бои... На дивизию стал грамотный, культурный Иван Артамонович Мотяшкин. Думали, нам повезло: порядок, четкость, под руками полный боекомплект, раненым срочная эвакуация, Епифанов натуры был широкой, сам любил простор и другим давал. Порой это оборачивалось, как водится у нас, и негативной стороной. А тут тебе - полный аккурат. Нравилось... Соберет нас Иван Артамонович на своем командном пункте под шестью накатами, выслушает не перебивая, а потом получай приказ - хоть в полевой устав вноси. Так жили - с переменным успехом. Главная заваруха, как ты знаешь, началась на плацдарме за Дунаем. Сперва бои шли успешные, по шесть-семь танковых атак в день отбивали. Потом что-то у нас заскрипело. Немцы как-то хорошо стали понимать наши маневры. Чудеса, и все. Мы, ветераны дивизии - я еще до войны служил ротным командиром, - призадумались: где же собака зарыта? Потом дошло: инициативу противник из наших рук перехватывал. Епифанов командиров частей не опекал - и требовал, и давал простор для самостоятельности. А тут тебе узенькая дорожка - не смей ни влево, ни вправо. Словом, все должны быть в круге своем.
Я улыбнулся.
- Да, это любимое мотяшкинское изречение. А дальше пошло у нас так: Мотяшкин распорядится, мы как положено: "Есть, будет исполнено", сами же воюем по-епифановски. Как-то, восточнее Надьбайома, мой полк трое суток отбивался от немецких ударов. Дошли до ручки. Бывает, что солдату надо во что бы то ни стало дать отдых. А тут его приказ: штурмовать кирпичный завод. Умоляю: "Возьму его на рассвете, а сейчас дайте поспать, люди с ног валятся. Подниму в атаку - последних потеряю". А он: выполняйте приказ, и баста. Выругался я и приказал ротам спать. Для отвода глаз палили из пулеметов и пушек. Только Мотяшкина вокруг пальца не обведешь - явился на мой командный пункт собственной персоной. И начался разнос... От полка отстранил. Ну и я ему дал... Он грозил военным трибуналом, да не успел кровь горлом у меня пошла. В бою, Тимаков, сразу видно, кто есть кто. Все короли - голые. Вот и Мотяшкин стал просматриваться насквозь...
- Остался на дивизии?
- Убрали. Был слух, что где-то в штабах преуспевает. Война кончилась. Когда на земле тихо, слышно даже, как на болотах лопаются пузырьки...
- Павел Николаевич, а кто такой Мотяшкин?
- Да как тебе сказать... Вот в старой русской армии от немцев было тесновато. Они насаждали свой образ военного мышления. Но не приторачивались друг к другу немецкая военная школа и русский характер, думается, от этого немало голов полегло. А вначале наша рабоче-крестьянская власть без старых военспецов не могла обойтись. К такого склада наставнику, может быть, и попал Мотяшкин и сам стал сколком с него - он ведь службу-то начал сразу же после гражданской войны. В характере его слишком развита черта пунктуальности. Вот ведь он честный, не обманет, но его философия все стороны квадрата равны. И чтобы никаких неожиданностей! На правом фланге - этакий высокий прямоугольник, а потом, пониже за ним, идут квадраты, квадратики. Его самого можно вычертить и вычислить. - Васильев лег и натянул одеяло до подбородка. - Что-то знобит... И язык стал заплетаться...
Как я уснул, не помню. Вскочил в каком-то беспамятстве, дико озираясь по сторонам.
- Воюешь? - услышал голос Васильева.
Я подошел к окну. За ним зеленел раскидистый клен. В медленно наступающих сумерках его листья темнели и казались неправдоподобно большими. За оградой прошли два сцепленных трамвайных вагона. Залился звонок, колеса с визгом брали поворот... "В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый... В чистом поле под ракитой богатырь..."