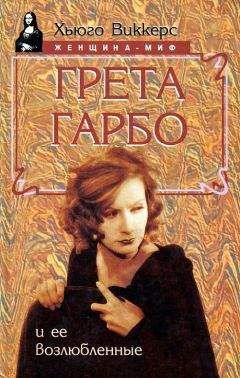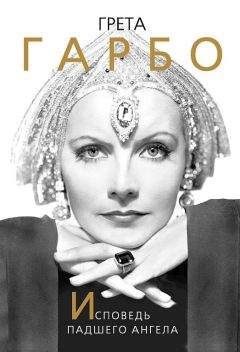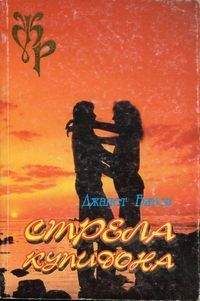«Ой, мисс Гарбо, что-то вы не совсем хорошо выглядите».
Г. была вся в слезах: «Неужели я так изменилась? Неужели я постарела?»
Мерседес тайком от нее побежала в тот магазин и строго-настрого приказала его владелице:
«Только посмейте еще раз сказать мисс Гарбо, что она плохо выглядит! Как бы ужасно она, по-вашему, ни выглядела, говорите ей, что она неотразима».
Женщина ужасно расстроилась и рассыпалась в извинениях».
Собственное здоровье Мерседес тоже пошатнулось, и она впала в глубокую депрессию. А после того, как в 1957 году она перенесла серьезную инфекцию правого глаза, то начала носить черную повязку, которая придавала ее внешности отъявленно пиратский вид. Ее страдания ничуть не уменьшились после того, как она была вынуждена переехать с Парк-авеню на квартирку на Шестьдесят Восьмой Восточной улице. Уайлдер Люк Бернэн, ее верный друг, вспоминает, как его не раз прогоняли прочь, едва только на горизонте начинала маячить фигура Гарбо. Он частенько видел ее с расстояния, но ни разу не встречался с ней лично. Когда Мерседес, погруженная в депрессию, сидела на инъекциях кортизона, она не раз угрожала самоубийством, уверяя Уайлдера, что у нее для этого действительно имеется пистолет. Однажды она попросила его отнести записку Гарбо на Пятьдесят Вторую Восточную улицу. Тем временем ей пришла взбодрившая ее телеграмма, которая начиналась следующими словами; «Милый парнишка!». Мерседес отложила пистолет. Затем написала Раму Гопалу, детально расписав ему свое самочувствие, не забыв при этом упомянуть, что Гарбо совершенно разочарована в нью-йоркских врачах. Индиец писал в ответ;
«Тебе просто следует постараться вытащить себя из наезженной колеи всех этих хворей и нервов и того разрушительного эффекта, который оказали на тебя все эти ужасные снадобья; я знаю, что единственный для тебя способ восстановить душевное и физическое здоровье — это целлюлярная терапия. Ты обязательно должна пройти курс, и хватит слушаться этих нью-йоркских идиотов с их дурацкими советами, сами они ничего не смыслят в методике анти-Ниханс, а только вытягивают из тебя и Греты последние деньги».
Затем прошел слух, будто Гарбо собралась в Швейцарию к местным докторам и что якобы сопровождать ее туда будет Мерседес.
Сесиль также написал Гарбо; «Постарайся хоть немного поправиться. Нам бы не хотелось, чтобы ты сделала из себя факира, даже если твои религиозные устремления неожиданно обратятся к Востоку. Я страшно расстроился, когда узнал, что тебе так ужасно не повезло с докторами, и едва ли осмеливаюсь надеяться, что твое самочувствие улучшилось, что к тому времени, как мне возвращаться в Нью-Йорк, к тебе снова вернется игривое настроение. Как было бы здорово, сумей мы вдвоем отправиться в какое-нибудь маленькое романтическое путешествие! Ведь вокруг столько замечательных, романтических уголков — пара часов на самолете, и все! Право, просто глупо обходить вниманием менее знаменитые места. Выше нос, главное — набраться храбрости и терпения! Я сильно тебя люблю и надеюсь, что ты испытываешь те же самые чувства к твоему старому другу Битону…»
Сесилю подвернулась возможность снова хорошенько рассмотреть Гарбо, когда в конце 1957 года он, как обычно, наведался в Нью-Йорк. И снова он услышал старую песню о том, как, с одной стороны, плохи доктора и, с другой, как жестока и бессердечна Мерседес.
«Итальянского доктора сменил диетолог из Калифорнии. Грета улетела к нему самолетом на три дня. Там она остановится у какой-то женщины и ее мужа в Санта-Монике. Затем она не знает, куда ей направить свои стопы и под каким вымышленным именем. Возможно, она изберет местом своего пребывания какой-то монастырь 16 века. Однако она улетала в такой спешке, что забыла даже на прощанье позвонить мне, а только попросила Мерседес передать мне ее «au revoir», но и то не раньше, чем перед моим отъездом. «А не то Битон отправится куда-нибудь на обед и скажет кому-нибудь, что я лечу этим самолетом, и тогда все эти репортеры сбегутся ко мне со своими камерами».
Мерседес пошутила:
— Не волнуйся, как только тебя не будет, я тотчас позвоню Луэлле Парсонс.
На что Гарбо ответила:
— Ну и совсем не смешно…
Мерседес ужасно страдает от бездушия Гарбо и после всех этих лет так и не научилась спокойно воспринимать ее выходки. Тем не менее иногда она посмеивается над Гретой и ее выходками и вместо того, чтобы рассердиться (как это часто делаю я), начинает хихикать:
«Нет, действительно приходится признать, что с ней не соскучишься — если, конечно ее не заносит слишком далеко». Грета по-прежнему прячется от всех, главным образом из-за своей скрытности, а не потому, что ее кто-то преследует. Как мне кажется, то, как бесцеремонно копались в ее личной жизни в годы молодости, отложило отпечаток на всю ее последующую судьбу. Она вот уже целый год как не была в театре, несколько раз выбралась за покупками с Эриком (Ротшильдом), и даже Шлее видел ее реже, чем обычно. По приезде я позвонил ей, и мне даже показалось, что она обрадовалась, что ее одиночество наконец-то кем-то нарушено. Она заглянула ко мне в тот же день — вошла и встала в дверях, как какой-нибудь неприкаянный беспризорник, вытаращив глаза и приоткрыв рот, словно приготовилась к пытке. Мы с ней расхохотались, выпили немного водки, хотя она, вроде бы, завязала с этим делом, и даже была согласна остаться на обед, если бы уже не пообещала кому-то другому.
— Обычная история — если бы ты только не была занята чем-нибудь более привлекательным.
— Но если бы я оставила этот вечер свободным, то наверняка бы в конечном итоге оказалась одна, причем в самый последний момент.
Правда, нельзя сказать, чтобы я особо переживал, — ровно никаких страданий, никаких расстроенных чувств. Я уже давно научился воспринимать все совершенно спокойно, и все же почти все время испытывал к ней какую-то необъяснимую нежность — и почти никаких обид. Мое сердце неравнодушно к ней, мне нравится по нескольку раз на день названивать ей по телефону, чтобы узнать, как там ее здоровье, главное — поддерживать связь, еще раз напомнить о себе, даже если; мне было прекрасно известно, что разговаривать нам особенно не о чем. Иногда она была погружена в депрессию и вздыхала. Иногда ничего не говорила, кроме своего шепелявого «уес», «уес». Как-то раз она чувствовала себя особенно неважно, и я слышал от нее только какое-то птичье попискивание и меканье. По ее собственному предложению мы отправились к Мерседес на чай — и там она снова уселась у окна, на самом сквозняке и, конечно, подхватила простуду, которая не отпускала ее целый месяц.
— Ты совсем отощала. Ты недоедаешь. В тебе не осталось жизненных сил, чтобы бороться с микробами. Твой позвоночник выпирает у тебя из спины, как какой-нибудь питон.