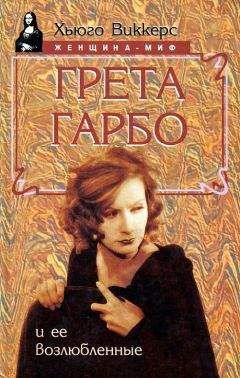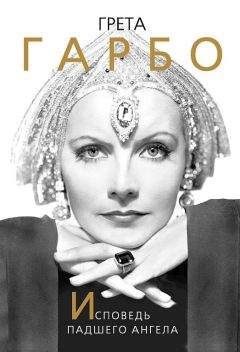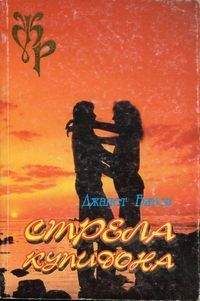— Ты совсем отощала. Ты недоедаешь. В тебе не осталось жизненных сил, чтобы бороться с микробами. Твой позвоночник выпирает у тебя из спины, как какой-нибудь питон.
— А откуда тебе это известно?
— Я видел, когда у тебя задрался свитер, ты наклонилась, чтобы завязать шнурок.
Однажды вечером я предложил сходить втроем, вместе с Мерседес, куда-нибудь пообедать. Свершилось чудо: она не только согласилась пойти, но и вообще все прошло без сучка, без задоринки. В Колониальном царила милая домашняя атмосфера, поданный обед оказался отменным, и Грета была в восторге.
— Еще ни разу в жизни я не ела таких вкусных бараньих отбивных.
Она призналась, что осталась ужасно довольна и, вернувшись к себе домой, позвонила мне, чтобы сказать, что вечер удался на славу. Она щебетала, как пташка, а внешне напоминала необузданную, но прекрасную цыганку — черный свитер по самое горло, всклокоченные волосы. В такси по дороге домой она положила мне на лицо ладонь и что есть силы сжала. Я сквозь ее же пальцы показал ей язык. Она ответила мне тем же. Как-то раз Грета совсем рано заглянула ко мне на стаканчик-другой. И застала меня спящим. Она немного расстроилась, что я не приготовил ни печенья, ни выпить и вообще был не готов к встрече с ней.
«Я ожидала хоть чуточку шарма».
Потом, когда ее обиды испарились, я позволил себе немного подшутить над ней. Однажды она сказала:
— Господи, чего бы я не дала, чтобы вернуть последние десять лет! Я бы вела себя совершенно по-иному. Если бы только я не упустила свой поезд!
Она несколько раз намекала на то, что я не могу говорить иначе, как «наш странный брак». Я знал, что в настоящий момент просто неразумно заводить разговор на эту тему. Мне бы в любом случае пришлось взять на себя самую невыносимо трудную работу, но сейчас уже невозможно прийти ни к какому решению. Она была то слишком больна, то растеряна, то слишком несчастна и слишком втянулась в свою тоскливую колею, чтобы вдруг ни с того ни с сего потерять голову и ответить мне согласием. Теперь ничего другого не остается, как и дальше брести по воде, ловя момент, дабы не упустить скромных радостей, и только надеяться, что будущее, возможно, принесет перемены к лучшему».
В 1958 году Сесиль удостоился своего первого Оскара за фильм «Жижи», а также внес последние изменения в постановку спектакля «Моя прекрасная леди» в театре «Друри-Лейн». Гарбо провела какое-то время в Лос-Анджелесе, ухаживая за своим другом Гарри Крокером, который находился при смерти. Сесиль написал ей туда в мае: «Теперь все несколько поутихло. Моя мать уже совсем стара, и поэтому переехала жить к моей сестре. Я впервые оказался совсем один. Именно в такие моменты мне ужасно не хватает тебя — почему ты где-то, а не со мной, тем более что до меня дошли сведения, что тебе нездоровится. Как обидно, что ты не можешь вырваться в эту часть мира, где вокруг зелено, целебный воздух полон ароматов и вся обстановка — не говоря уже о докторе Готтфриде — пошла бы тебе на пользу. Ведь ты все равно строишь какие-то планы, и если тебе хочется ко мне, если у тебя нет желания провести очередное лето в Ривьере с ее голыми скалами, то тебя с распростертыми объятьями ждут здесь у нас».
Незадолго до этого у Сесиля появилась работа в Голливуде, а успех спектакля «Моя прекрасная леди» укрепил его довольно шаткое материальное благополучие, отчего у него появилась возможность возобновить работу над собственной злополучной пьесой «Дочери Гейнсборо».
Тем летом Гарбо, как обычно, отправилась на юг Франции и, как ни странно, была настроена весьма общительно. В конце августа в газетах промелькнули сообщения о том, что сэр Уинстон Черчилль, которому в ту пору уже исполнилось восемьдесят три, а потому здоровье его оставляло желать лучшего, как-то раз засиделся после полуночи, обедая в компании Гарбо и Онассиса, в одном из знаменитых ресторанов Ривьеры — по всей вероятности, это был «Шато де Мадрид».
«Эту троицу можно видеть вместе все чаще и чаще», — писала «Нью-Йорк Таймс».
Сэр Уинстон, который выздоравливал после двухмесячной пневмонии, гостил на вилле у лорда Бивербрука, также в Кап д'Эле. Он пригласил Гарбо и Онассиса в качестве почетных гостей на празднование его золотой свадьбы, которое должно было состояться 12 сентября.
Местный префект устроил по этому поводу обед, а поздравления прислали такие именитые личности, как королева Елизавета, президент Эйзенхауер, Гарольд Макмиллан, президент фирмы «Коти» и генерал де Голль. Из «Шато де Мадрид» прибыли пятилитровая бутыль коньяку стодевятнадцатилетней выдержки и бесчисленные букеты цветов. Сам сэр Уинстон стоял на террасе в белом летнем костюме, попыхивая сигарой, в то время как его восьмилетняя внучка Арабелла безупречно прочитала стихотворение о розах.
Когда несколькими днями позже, 18 сентября, Гарбо праздновала свой собственный день рожденья, она пригласила всех своих именитых соседей по Ривьере, однако закончила вечер в компании одного-единственного Шлее. Говорили, что она не употребляет ничего, кроме фруктов, йогурта и чая со льдом. Тем временем они отправились в Афины, а затем, в начале октября, в Рим, где Гарбо заметили разгуливающей по Виа-Венето без шляпы и в довольно легкомысленном наряде. Гарбо вернулась в Нью-Йорк, так и не встретившись с Сесилем.
В ноябре Битон писал Мерседес:
«Я рад, что ты вытащила Грету в кино. Боюсь, что следующий шаг для нее — это оказаться навсегда прикованной к постели… Как это, однако, грустно — у меня перед глазами печальный пример соседа, Стивена Тенанта. Он стал совершенно невыносимым и капризным. Врачи в полном отчаянии. При мысли об этом мне становится не по себе. В Париже было много пересудов о том, как нынче вел себя Шлее на борту яхты Онассиса. Похоже на то, что вторичного приглашения ему не видать. Диву даюсь, как вообще его терпели так долго. Правда, по-видимому, там не умеют с первого взгляда отличать хорошее от дурного…»
В начале 1959 года Сесиль прибыл в Нью-Йорк, чтобы работать над постановкой Ноэля Кауэрда «Позаботься о Лулу». Вскоре по приезде он позвонил Гарбо и она заглянула к нему на рюмочку. Сесиль вспоминает:
«Я наблюдал за Гретой с любовью и состраданием. За последние двадцать лет, что я был особенно близок с ней, она, увы, настолько постарела, что просто глазам не верится. Мне ни разу не доводилось видеть нечто более ослепительное, чем ее небесно-голубые глаза, когда мы впервые гуляли с ней по Пятой авеню. Ее лицо было безупречно. А теперь на нем залегли глубокие морщины. И все равно, это — прекрасное, чувствительное лицо, которое постоянно меняет свое выражение, и поэтому наблюдать за ней, когда она рассказывает какую-нибудь историю, — одно удовольствие. Чего стоит только одно это нежное движение губ над безупречным рядом белоснежных зубов.