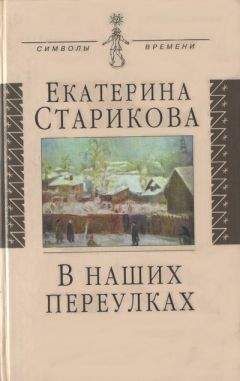В Серебряном переулке, в квартире Краевских, появились новые жители, брат и сестра Сергеевы. Это наши тетя Лёля и дядя Ваня поменялись с ними комнатами, переехав в большие в Николопесковский переулок. Полина Васильевна была преподавателем ботаники в Московском университете. И она соблазнила нашу маму «подработать» летом: снять дачу в выбранном ими, ботаниками, месте и за плату собирать и сушить травы для пополнения университетского учебного гербария. С зимы мы все весело готовились к будущей деятельности. Мама оживленно описывала ее нам: так мы обычно летом просто гуляем и собираем букеты, а тут за то же самое нам будут платить деньги. Оказалось так да не так.
Деревня Головково с действующей тогда церковью располагалась в километре от платформы того же названия — это была следующая станция за Подсолнечной, теперешним Солнечногорском. Деревню обтекал чистый светлый ручей, кое-где запруженный, и мы с удивлением узнали, что этот ручей — исток довольно известной реки Истры. В то лето она разбухла от непрерывных дождей даже и в самых верховьях, и в сенокос быстрый поток уносил на себе копны сена, смывая его с лугов.
Ненастье имело для нас, сборщиков гербариев, губительное значение. И, казалось, что самое неприятное тем летом была непогода. Но потом, через годы, и она стала мной восприниматься как символический знак — предупреждение близящихся несчастий.
Университетские ботаники жили в том же Головкове, они показывали маме первые образцы очередного растения, подлежащего в определенное время сбору, и учили ее способу сушки. Лопаточки, сетки, бумагу для прокладки сушащихся растений они тоже нам вручали. Но оказалось, что выкопать, не повредив корня, пятьсот штук даже погремков не так-то легко. А вот попробуйте найти нужное количество (сотни!) раковой шейки, выкопать ее, разрезать ланцетом ее толстый длинный корень — иначе его не просушишь (где, кстати, это растение, кто его видел в наших лугах в последние десятилетия?). А дождь идет и идет. А обуви и одежды подходящей у нас, конечно, нет. И мы топали целыми днями по лугам и болотам босиком, в тяжелых осенних пальто, с лопаточками и сумками в руках, проклиная мысленно некогда любимые цветы и всю ботанику скопом. Но вслух не роптали. Слово «надо» и мамин приказ были для нас неотменимы и в мои одиннадцать, и в Алешины восемь лет. Маленькая Лёля уныло тащилась за нами, повторяя русские и латинские названия растений. Но какие же тогда были луга! Сколько вокруг цветов, исчезнувших теперь! Перевязанные веревками сетки заполняли нашу единственную комнату, а когда изредка выглядывало солнце, мы срочно вывешивали их на плетень нашего палисадника, солнце тут же пряталось, и мы снова тащили проклятые сетки в дом.
Однако, дождь и ботаника только окрасили цветом печали то лето. Было в нем еще что-то гнетущее, что я не могла определить словами. Оно явственно прорвалось в день очередных маминых именин, такой же серый и сырой, как и все то лето. Вместо семейного праздника с малиной и ромашками на этот раз именины вылились в пьяную пирушку маминых гостей — вот тех самых, что были так тихи во время дневных посещений нас в Москве. Именно в тот день я впервые увидела и Николая Николаевича.
Был он сыном, кажется, Калужского предводителя дворянства; впрочем, может быть, и меньшего города той губернии, и вместе с матерью и отцом жил в одной квартире с Маклаковыми, занимая в этом страшноватом пристанище с дверями красного дерева крошечную комнатенку. Служил же где-то бухгалтером и был, по словам всех знакомых, прекрасным гитаристом. От него недавно ушла жена, и он, по рассказам мамы, очень страдал от разлуки с дочерью, которой было, наверно, лет десять. Большой, широкий, темноволосый, он был, вероятно, красив какой-то ленивой, спокойной красотой, мне же не понравился с первого взгляда. Или, может быть, то было не тогдашнее первое впечатление, скорее всего безразличное и смутное, а то, что наложилось на него позднее, — антипатия и презрение. Мое. А говорили, что он был хорошим человеком.
В дождливый день в деревенском доме за дощатой перегородкой сыро и тесно. В шумной и пьяной толкотне взрослых явно не до нас, мы здесь лишние. И я тихонько, никем не замеченная, ускользаю сначала из-за стола, потом и из избы. Забираюсь в сарай, но прошлогоднего сена в нем почти уже нет, а нового еще нет, и согреться нечем. Кажется, кончился дождь? Брожу неприкаянная вокруг дома. Устав, ложусь на чисто промытое дождем и едва подсыхающее деревянное полотно какой-то сельскохозяйственной машины, брошенной возле сарая, и, закрыв глаза, горько-горько плачу, не зная толком о чем: от омерзения к запаху водки, от своей ненужности. И вдруг ощущаю на голове прикосновение большой сухой ладони. Открываю мокрые глаза: папа. Он присел рядом со мной и молча гладит меня. От ласки я начинаю рыдать еще пуще, но постепенно успокаиваюсь. Мы с ним не говорим, но я знаю, что нам обоим больно и о причине этой боли вслух говорить нам нельзя.
15
От сырого ли лета, от постоянной ли печали, от чего ли еще, но вернувшись в Москву из деревни, я начала постоянно болеть. К ноябрю моя болезнь разыгралась не на шутку. Я лежала с очень высокой температурой и без всяких признаков других недомоганий. Отчаявшись, мама попросила посмотреть меня Костю Григоровича — молодого военного врача, давнего приятеля маминого двоюродного брата Колюши, впоследствии медицинского академика Николая Александровича Краевского.
С раннего детства ты считали Костю и нашим другом, потому что, едва встретившись с нами в Серебряном, он тут же начинал веселую возню и позволял нам то, что ни один взрослый никогда бы не позволил: общими усилиями повалить его на диван, внезапно набросить ему на голову его же шинель, запереть его снаружи в уборной. Сколько ему было тогда лет? Двадцать восемь? Тридцать? Для нас он — большой мальчик. И нисколько не похож на всегда серьезного, хотя и ироничного, Колюшу. Появление Кости Григоровича у нас в Каковинском воспринимается нами не как визит врача, а как праздник. Да и приходит он как щедрый гость — с громадными кульками в руках. В них всевозможные вкусные вещи, в том числе фрукты, которых мы никогда не видим. Костя тихо расспрашивает маму, слушает меня черной гладкой трубочкой, берет у меня из пальца кровь, а потом шепчет мне на ухо: «У тебя, наверно, паратиф, и послезавтра, когда будут готовы анализы, тебя посадят на очень строгую диету. Поэтому сегодня и завтра ешь как можно больше фруктов. Но уж потом — ничего такого, ни-ни. Договорились?» С точки зрения медицинской, вероятно, такой совет-разрешение был не очень правильным. Но как же я за него благодарна Косте! За доверие, за щедрость, за веселость. Педагогически он вел себя безукоризненно: дав ему слово, я потом сама следила за своей диетой и никогда не роптала на нее. Я же обещала ему.