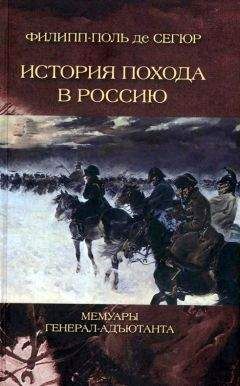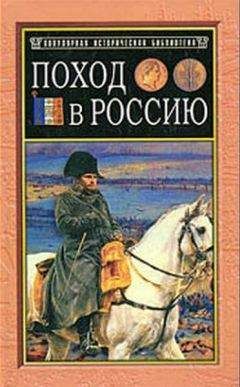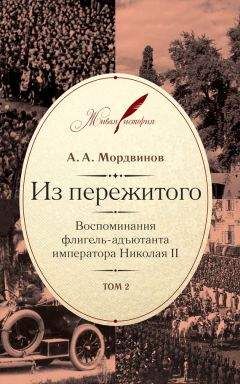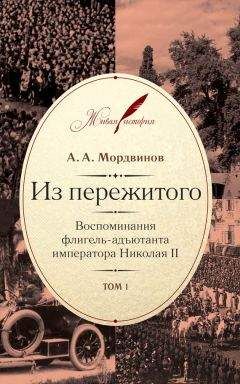Между тем его томление всё возрастало. Он знал, что рассчитывать на прусскую армию больше не может. Извещение, адресованное Бертье, заставило его потерять уверенность в поддержке австрийской армии. Кутузов дурачил его, он это чувствовал, но он зашел так далеко, что не мог уже, сохраняя честь и успех, ни идти вперед, ни отступать, ни оставаться, ни сражаться. Таким образом, то подталкиваемый, то удерживаемый на месте разными соображениями, он оставался на пепелище Москвы, едва смея надеяться, но всё еще продолжая желать!
Его письмо, переданное Лористоном, должно было быть отправлено 6 октября. Ответ не мог прийти раньше 20-го, но, несмотря на столько угрожающих признаков, гордость Наполеона, его политика и, может быть, даже здоровье заставляли его принимать самое опасное из всех решений, а именно — ждать ответа, полагаясь на время, которое его убивало. Дарю, так же как и другие офицеры, удивлялся, что император не проявляет больше прежней решительности, соответствующей обстоятельствам. Они говорили, что его характер не может приноравливаться к обстоятельствам, и упрекали его за природную стойкость, которая помогла ему возвыситься, а теперь должна была сделаться причиной падения. Но в таком критическом военном положении, вызванном политическими осложнениями самого щекотливого свойства, нельзя было ждать от него, всегда демонстрировавшего такое непоколебимое упорство, чтобы он быстро отказался от цели, которую поставил себе с самого Витебска.
Наполеон полностью отдавал себе отчет, в каком положении он оказался. Для него всё казалось потерянным, если он уступит перед лицом потрясенной Европы, и всё будет спасено, если он превзойдет Александра в решительности. Он очень хорошо видел средства, которые могли поколебать стойкость его соперника, и понимал, что численность боеспособных сил, их состояние, время года, короче говоря, ситуация в целом становится всё менее и менее благоприятной для него; но он рассчитывал на силу иллюзии своих побед. До сего дня он черпал в этом истинную мощь; он находил благовидные доводы, которые помогали ему поддерживать уверенность своих людей и собственные слабые надежды.
В Москве, оставшейся без жителей, император больше не мог ничем завладеть. «Несомненно, это несчастье, — сказал он, — но это несчастье, не лишенное преимуществ. Если бы было по-другому, то я бы не смог поддерживать порядок в таком большом городе, держать в благоговейном страхе триста тысяч душ и спокойно спать в Кремле, не ожидая, что мне перережут горло. Они оставили нам одни развалины, но по крайней мере нам среди них спокойно. Миллионы выскользнули из наших рук, но сколько миллионов потеряно для России! Ее торговля разрушена на целый век. Нация отброшена на пятьдесят лет назад; это само по себе является важным результатом. Когда первый момент энтузиазма пройдет, осознание этого наполнит их ужасом». Столь сильный шок, заключал он, пошатнет трон Александра и вынудит этого правителя просить мира.
Когда Наполеон проводил смотр армейских корпусов, численность которых значительно сократилась, то очень быстро проходил вдоль фронта солдат, построившихся в три шеренги; он был раздосадован этим и приказал, чтобы его пехота строилась в две шеренги.
Поведение его армии поддерживало его желание. Большинство офицеров продолжали верить в него. Простые солдаты, живущие только настоящим и мало ожидающие от будущего, не испытывали никакого беспокойства. Они сохраняли свою беспечность — лучшее из их качеств. Но те награды, которые расточал им император и о которых объявлялось в ежедневных приказах, всё же принимались ими со сдержанной радостью, к которой примешивалась некоторая печаль. Вакантные места, заполнявшиеся теперь, еще сочились кровью. Поэтому расточаемые милости носили грозный характер!..
После Вильны многие побросали взятую с собой зимнюю одежду, чтобы можно было нагрузить на себя съестные припасы. Обувь износилась во время пути, а вся одежда изодралась. Но, несмотря на это, они гордо держали себя, тщательно стараясь скрыть перед императором свою нищету. У них было отличное оружие, всегда исправное. Во дворе царского дворца, в восьмистах лье от обозов, после стольких битв и бивуачной жизни, они всё же старались казаться чистыми, блестящими и всегда наготове. В этом заключалась честь солдата! И они придавали большое значение заботам о своей внешности — именно потому, что это было сопряжено с большими трудностями и вызывало удивление: ведь человеку свойственно гордиться тем делом, которое требует от него усилий.
Император снисходительно смотрел на них, хватаясь за все, что помогало ему надеяться. И вдруг пошел первый снег. С ним исчезли все иллюзии, которыми он старался окружить себя. С той поры Наполеон стал думать только об отступлении, не произнося, однако, этого слова, и у него нельзя было вырвать ни одного приказа, который объявлял бы об этом положительным образом. Он сказал только, что через двадцать дней армия должна быть уже на зимних квартирах, и поэтому торопил с эвакуацией раненых. Здесь, как и везде, его гордость не хотела допустить, чтобы он покинул всё добровольно. Для его артиллерии, которая была слишком велика в сравнении с армией, так сильно сократившейся, не хватало упряжек, и все-таки он раздражался, когда ему предлагали оставить часть артиллерии в Москве. «Нет! — восклицал он. — Неприятель воспользуется ею как трофеем». И он требовал, чтобы все следовали за ним.
Наполеон отдал приказ закупить 20 тысяч лошадей в этой пустынной стране. Он хотел, чтобы запас фуража был сделан на два месяца. И это там, где не удавалось, несмотря на самые отдаленные и самые опасные поездки, запастись фуражом даже на один день! Некоторые из приближенных императора удивлялись, выслушивая такие невыполнимые приказы, но уже не раз приходилось видеть, что он прибегал к ним, чтобы обмануть своих врагов, а еще чаще для того, чтобы указать своим подчиненным на их потребности и те усилия, которые они должны предпринять, чтобы удовлетворить их.
Его душевные страдания проявлялись во вспышках гнева. Это было во время утренних приемов. Находясь среди высоких начальников, в чьих взволнованных взглядах он, как ему казалось, мог прочитать знаки неодобрения, он считал нужным напугать их суровым видом, резким тоном и грубыми словами. Бледность его лица говорила о том, что Правда, являвшаяся ему в ночной темноте, подавляет его самым печальным образом и утомляет его своим нежелательным светом. Порой его сердце будто переполнялось этими печалями, что проявлялось в его нетерпеливых движениях. Это не давало ему облегчения, а он лишь усугублял свои страдания неправедными действиями, за которые себя впоследствии упрекал.