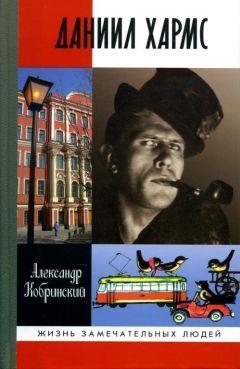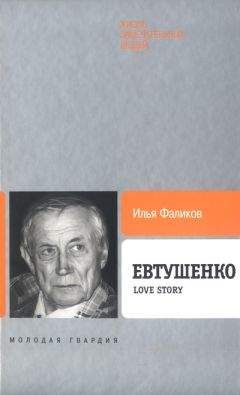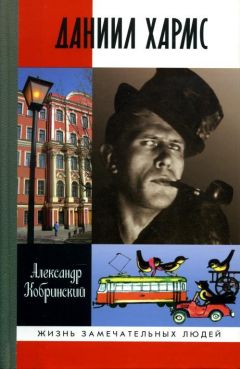Обвинения в юродстве, в пародировании материалистического мировоззрения, может быть, и сошли бы Заболоцкому с рук. Но в «Торжестве земледелия» он имел несчастье в том же стиле примитивистского лубка изобразить и борьбу с кулачеством, которая вовсю разворачивалась в советской деревне под личным контролем Сталина. Это не прощалось. Последовали многочисленные политические обвинения, в том числе дважды — в газете «Правда». В результате книга Заболоцкого так и не появилась.
Из всех художников юбилейной выставки Хармсу понравился только Малевич, верный своим вкусам 1920-х годов. Неожиданно чем-то приятен оказался Бродский, хотя к концу 1932 года он уже был вполне официозным художником, автором известных портретов Ленина и Сталина. Наибольшее отвращение вызвали у него «круговцы», то есть члены общества «Круг художников», крупнейшего художественного объединения Ленинграда, в которое входили, в частности, такие живописцы, как А. Русаков, А. Самохвалов, Д. Загоскин, А. Пахомов и др. Впрочем, «Круг» доживал последние дни. Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», принятое еще 23 апреля 1932 года, привело к ликвидации не только различных литературных объединений, но также обществ и кружков композиторов, архитекторов, художников и т. п. Для писателей был создан единый для всех Союз советских писателей с единым для всех методом социалистического реализма, а для художников — Союз советских художников. Уже в том же 1932 году «Круг художников» перестает существовать.
Весь ноябрь и декабрь Хармс ведет «светский» образ жизни. Практически ежедневно он ходит в гости к знакомым поэтам и художникам или принимает гостей у себя. Дневник пестрит записями: «поехал к Житкову», «поехал к Пантелееву», «пошел к Маршаку». С Б. Житковым и Л. Пантелеевым (Алексеем Ивановичем Еремеевым) Хармса связывали очень теплые отношения, не прерывавшиеся и во время ссылки. С Маршаком отношения были сложнее. Хармс относился к нему, с одной стороны, с любовью и уважением, а с другой — с иронией, которую вызывали в нем серьезность и ответственность Маршака. В уже цитируемом письме Пантелееву из Курска Хармс пишет:
«Что такое, Вы пишете, с Самуилом Яковлевичем? Но его натуру не переделать. Если дать ему в день по стишку для прочтения, то он все же умудрится быть занятым целый день и ночь. На этом стишке он создаст теорию, проекты и планы и сделает из него мировое событие. Для таких людей, как он, ничто не проходит зря. Всё, всякий пустяк делается частью единого целого. Даже съесть помидор, сколько в этом ответственности! Другой и за всю жизнь меньше ответит. Передайте Самуилу Яковлевичу мой самый горячий привет. Я еще не написал ему ни одного письма. Но, значит, до сих пор и не нужно было».
Поздние воспоминания Марины Малич немного добавляют к тому, что мы знаем об отношениях Маршака и Хармса. Пожалуй, только об уже упоминавшейся выше совместной поездке на пароходе по Волге (скорее всего, дело было в 1936 году) мы ничего не знали, поскольку она никак не отражена в дошедших до нас дневниках и записных книжках Хармса. Из остальных ее фраз интерес представляет такая характеристика: «Маршак очень любил Даню. И я думаю, Даня также относился с большим уважением к Маршаку». Впрочем, уважение не препятствовало хармсовской иронии, которая иногда прорывалась в его отзывах о Маршаке.
Видимо, благодаря отцовским и собственным хлопотам Хармс получает разрешение остаться в Ленинграде — его высылка была отменена. Увы, это не коснулось его друзей. 25 ноября 1932 года в Борисоглебск выехал Гершов, а 28 ноября Ленинград покинул и Введенский, которого на вокзале провожали мать и сестра, а также Хармс. Не пришла только его любимая «Нюрочка», в результате чего Введенский уехал очень огорченный.
Видимо, уже в Ленинграде Введенский договорился о смене места будущего проживания: Борисоглебск вместо Вологды. То, что он едет в Борисоглебск, знал и провожавший его Хармс, он записывает в дневник: «Сегодня Александр Иванович едет в Борисоглебск». Но уже через два дня Введенский посылает Хармсу почтовую карточку, на которой стоит штамп отправления — «30 ноября, Вологда»:
«Даня, ты пишешь, что тебе чего-то тоскливо. Глупо, Даня, не огорчайся. Потом ты пишешь что-то такое про зонтики. Зачем? Мне это неинтересно. Напиши лучше чего-нибудь про среду.
Я уехал в Вологду. Тут зима. Сейчас иду обедать. Время тут такое же, как в Ленинграде, то есть как две капли воды. ‹...›»
А еще через четыре дня Хармсу была отправлена новая почтовая карточка:
«Здравствуй, дорогой Даня. Ты это или не ты? Не знаю. Мой адрес: Кривой пер. 35. Позвони Тамаре[16] и скажи ей его.
Я очень много тут ем. В моей комнате растет большое дерево. Ты спрашивал меня, нравятся ли мне гвозди? очень нравятся. Сегодня был тут один случай. Часто ли ты бреешь бороду? Между прочим, будь добр напиши, который у вас час. Пиши и правильно дыши. Целую».
Штамп отправления на этой карточке — «4 декабря, Борисоглебск».
Обе карточки написаны в традиционном для Введенского игровом духе, в котором долгие годы выдерживалась их переписка. Разумеется, никаких писем от Хармса Введенский получить не успел, и упоминание якобы полученных от Хармса слов, что ему «чего-то тоскливо», — чистая выдумка. Одним из излюбленных приемов друзей было отвечать на ими же самими придуманные слова, якобы написанные корреспондентом. Но вот география мест, откуда посылал Введенский Хармсу свои короткие весточки, вызывает удивление. Вологда и Борисоглебск (Воронежская область) находятся совершенно в разных направлениях от Санкт-Петербурга (тогда — Ленинграда), и предположить, что Введенский по дороге в Борисоглебск решил на пару дней остановиться в Вологде, — невозможно. Скорее всего, Введенский должен был сперва заехать в первоначально избранную для проживания Вологду, отметиться там в местном ГПУ и только оттуда ехать в Борисоглебск. Тогда запись Хармса о проводах Введенского в Борисоглебск может означать лишь то, что Вологда рассматривалась лишь в качестве промежуточной одно-двухдневной остановки, а Борисоглебск — конечной целью поездки.
Свой адрес в Борисоглебске (Кривой переулок) Введенский, конечно, писал с большим удовольствием — это название вполне совпадало с обэриутским мироощущением (через несколько десятков лет последний обэриут Игорь Бахтерев напишет прозаическую вещь «Случай в „Кривом желудке“»). А через полтора года уже не в Воронежской области, как Введенский, а в самом Воронеже поселится ссыльный Осип Мандельштам, так написавший об одной из улиц, на которой ему там пришлось жить:
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее не вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...
Кривая и уходящая вниз улица («яма») в стихотворении как бы подсвечивает «кривую» фамилию самого Мандельштама, не выбиравшего в жизни прямые пути.