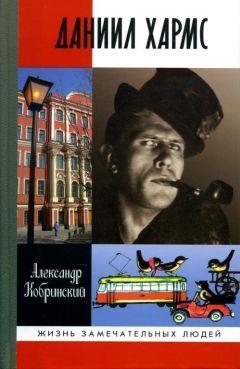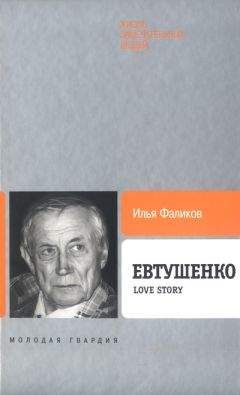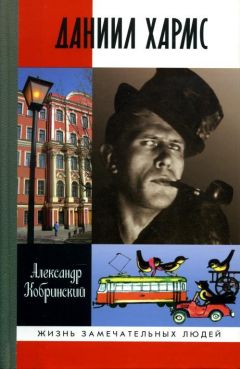Со слов Павла Дмитриевича Корина знаю, да это и без меня достаточно широко известно, что вся семья Пешковых — сам писатель-классик, жена, сын с невесткой были близки с членами коллегии ОГПУ, а Ягода и его присные являлись постоянными посетителями дома на Малой Никитской и на даче Горького и числились его друзьями. Знаю, что Екатерина Павловна, минуя охранительные посты и секретарей, прямо проходила в кабинет Ягоды и в особо вопиющих случаях не просила, а требовала, и не просто смягчения участи заключенных, а их освобождения».
К этому стоит добавить, что несмотря на то, что спустя два десятилетия после революции «Помполит» был все-таки закрыт, Пешкова продолжала свою деятельность, используя личные связи. Известно, что ей удавалось добиваться освобождения людей даже в послевоенные времена у Берии. Интересно, что уже во второй половине 1930-х годов к Пешковой обращалась вторая жена Хармса Марина Малич, которая по возвращении из плавания по Волге на пароходе с Хармсом, Маршаком и двумя детьми Маршака, узнала об аресте своей бабушки — урожденной княгини Голицыной. В свое время с помощью «Помполита» удалось вытащить из тюрьмы ее дедушку, и Малич отправилась к Пешковой. Екатерина Павловна вспомнила, что 15 лет назад она уже помогала княгине Голицыной, и поинтересовалась, не о ней ли просит снова Марина Малич. Узнав, что о ней, Пешкова возмутилась: «Неужели они взяли старуху?» Ее вмешательство оказалось действенным, и бабушку освободили.
Таким образом, Иван Павлович Ювачев, обращаясь к Пешковой, прекрасно знал, что делает. Обращаться же к Калинину, «всесоюзному старосте», после того, как он уже обратился к Пешковой, было нельзя — такое дублирование могло только повредить делу. Оставалось только ждать.
И Хармс ждал. После отъезда Введенского и Сафоновой ему стало в Курске совсем одиноко. Ничего не хотелось делать, всё валилось из рук, даже чтение давалось с трудом. Вот запись от 2 октября: «Почти весь день сидел дома. Читал и раздумывал. Ничего не делал. Валялся на кровати и сидел тупо за столом. Варил себе макароны. Лег спать в 11 часов. Ночью была сильная гроза. Я проснулся и видел, как сверкали молнии. Но скоро заснул опять».
Единственной отрадой было улучшение здоровья. 3 октября Шейндельс осмотрел Хармса, выслушал его и сделал вывод, что болезнь постепенно сходит на нет. Ожидание вестей о результатах рассмотрения отцовского ходатайства было мучительным. Хармс начинает задумываться: не стоит ли самому попробовать приехать в Ленинград и обратиться с просьбой об отмене установленных ограничений на место проживания. «Умно ли я делаю, что сижу в Курске? — записывает он. — Чего я жду? Я сам не знаю, чего я жду».
Решающим толчком стало письмо, полученное Хармсом от Введенского. До Вологды, куда Введенский вслед за Сафоновой получил разрешение выехать, из Курска непосредственно .доехать было нельзя — нужно было ехать через Москву и Ленинград. Кроме того, видимо, нужно было оформить документы в Ленинграде для выезда на новое место жительства. Уже 3 октября 1932 года Введенский оказался в Ленинграде и сразу же послал письмо Хармсу в Курск, в котором рассказал о встрече с его отцом и настоятельно советовал последовать его примеру:
«Дорогой Даня.
Я сегодня приехал в Ленинград, чего и тебе желаю. Был у твоего отца, ни до чего с ним не договорился. Он ждет т. Когана, который приедет 5 или 6-го. Калинину тоже писать не хочет. Вообще же все-таки рекомендует Вологду. В Москве сразу садись на 49 номер трамвая и езжай на Октябрьский вокзал. Там (вход со двора) найдешь кассу № 2, у которой будет стоять очень большая очередь. Обратись к носильщику, не давай ему больше 5 рублей, чтобы он тебе закомпостировал билет (это значит сидячее место, платить за это место не нужно — это не плацкарта) на поезд 4 ч. 30 м., и тогда в 8 ч. утра на следующий день ты будешь в Ленинграде. Понятно? Приезжай скорее. Деньги тебе как будто бы уже высланы».
Это письмо, видимо, стало последней каплей. Пребывание в Курске становилось совсем невыносимым. Из письма Введенского он сделал вывод, что надеяться на связи отца нет смысла, надо ехать самому и хлопотать. Но просто так покинуть место высылки и ехать в Ленинград, где ему проживать было запрещено, он не мог. Думается, что он пошел по стопам своего друга, обратившись в курское ГПУ с просьбой разрешить сменить место жительства на Вологду. Он ничего не терял — в случае неудач с ходатайствами, он оказался бы в Вологде — вместе с Введенским и Сафоновой. К началу октября Хармс уже был готов чуть ли не на любой город, кроме ненавистного Курска.
Двенадцатого октября 1932 года он возвращается в Ленинград. Начинаются хлопоты. Судя по всему, следователь Коган оказал Хармсу определенную помощь, хотя неизвестно, было ли это следствием личной симпатии, возникшей вследствие их долгих разговоров на интеллектуальные темы (Коган вообще был сторонником «интеллектуального» стиля допросов), или же на это повлияли ходатайства И. П. Ювачева. Интересно, что, судя по записным книжкам и дневникам Хармса, Коган, пока его «клиент» находился в ссылке, давал полезные советы его отцу, а когда Хармс вернулся в Ленинград, между ними возникли почти приятельские отношения. Несмотря на негодование друзей, Хармс неоднократно встречался со следователем, вел беседы на различные темы и даже обменивался курительными трубками.
В любом случае Хармсу было разрешено остаться в Ленинграде; срок его высылки был завершен. Более того, его даже восстановили в Союзе писателей.
Примерно около полутора месяцев он ничего не записывает — ни в записные книжки, ни в дневник. Поэтому нам остается лишь гадать, что происходило в эти дни. Во всяком случае, за это время он уже почти окончательно вернулся к обычной ленинградской жизни. За время его отсутствия мало что изменилось, лишь умерла его любимая собака — тойтерьер Кэпи, которую он очень любил. Как свидетельствует Елизавета Грицына, Хармс очень страдал, узнав о ее смерти. Его до ссылки часто видели с этой маленькой собачкой, которая, по многим воспоминаниям, составляла как бы часть его экстравагантного облика.
Хармс сразу же навещает близких знакомых. По просьбе Бориса Житкова Хармс пытается подыскать ему «скромного скрипача» для домашнего музицирования (Житков очень любил музыку). 19 ноября он приходит в гости к Корнею Чуковскому. Тот был еще болен гриппом и принял Хармса, лежа на полу возле камина («На полу лежит просто для красоты, и это, действительно, очень красиво», — записал Хармс тремя днями позже, вспоминая этот свой визит). Разговор, в частности, шел о предстоящем переиздании книги Чуковского «Маленькие дети». Во втором издании (Л., 1929) Чуковский, размышляя о словесной игре в детских стихах, упоминал Хармса, чьи детские стихи он очень ценил: