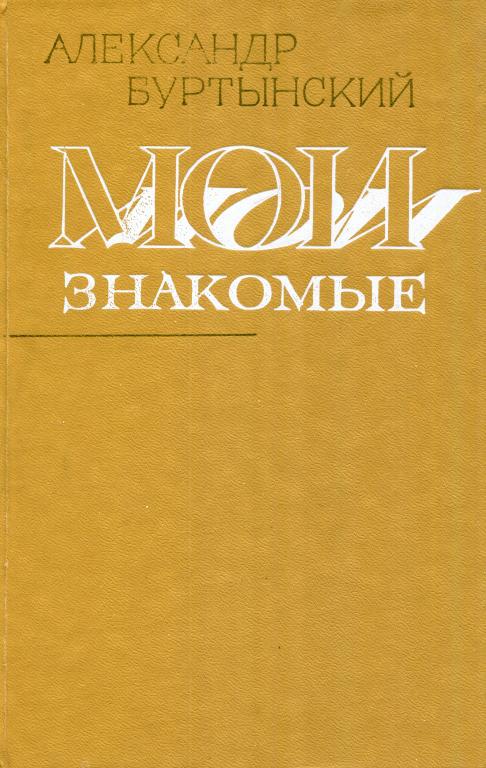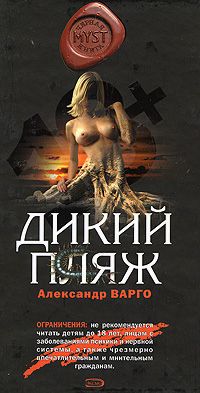взмыл в поднебесье.
— Мешочек этот я сам придумал.
Не без гордости показал мне Сергей, пустой матерчатый футляр, точно речь шла о каком-то необыкновенном, изобретении. Но стоило представить со слов Сергея, каково ему было вначале возиться с птицей, когда она пищит, трепыхаясь в руках, начисто выбивая из колеи, как стало понятно это удивительное сочетание в юном ученом одержимости и доброты. В мешочке-то ей спокойно. И ему — тоже. У него даже губы огорченно вспыхнули при мысли, что постороннему непонятны такие простые вещи. Я-то понял.
Сергей пошел к ловушкам, а я назад к кухне.
Торопился зря. Дольника все еще не было. Издали было видно, как Наталья колдует над шипящей сковородкой. Я снова повернул в ельник и почти столкнулся с высоким парнем, красивым, в модных бачках, со взлохмаченной шевелюрой. Он проверял гнезда, я спросил, не бросает ли птица гнезда после того, как он пересчитает яички, не спугнут ли ее чужие запахи.
— Не, они тут привычные, — ответил он с мягким украинским акцентом. Он подсчитывал будущих птенцов, необходимых для эксперимента с ориентировками. — Дольник? Нет, не видел. А вам зачем? А, ну ясно, к нам тут многие с газет приезжают, журналисты, писатели… Айда ко мне наверх, — он показал на окно мезонина над кухней. — Чего тут лазить по солнцепеку? Как явится, мы его с окна углядим. Анатолий Шаповал…
Он подал мне здоровенную ручищу с жесткой, как наждак, ладонью. Познакомились.
Комнатушка похожа на пенал, с койкой и полками, уставленными чучелами и птичьими тушками. Угольно-черный дрозд… Серенькая со светлым брюшком славка, коричневато-оливковый, с пестринками зяблик. Нет, он их не убивал. Погибли во время перелета, он подобрал — для науки, готовил их для института. Толя уселся на низенький стульчик, предложив гостю табурет, и, достав из-под стола шило и дратву, принялся чинить старый ботинок — как видно, люди тут время зря не теряли — на все руки мастера.
— Я-то еще не сотрудник даже, — сказал Толя, умело намыливая дратву. — Университет-то я кончил во Львове. А в учителя не схотел. Ну не по душе мне профессия. А тут на практике был, полюбил птиц. Ну диплом в карман, приезжаю, а Дольник меня вспомнил: ты, говорит, парень работящий, иди пока электриком до первой вакансии. Я и пошел, на восемьдесят ре. Сейчас вот столярничаю, с чучелами вожусь, собираю материал о ночных миграциях, помогаю ученому Большакову Казимиру Владимировичу считать перелетные стаи — в телескоп, на фоне лунного диска. Опыты ставим с клетками. Ну на кольцевании так по суткам из препаратной не вылажу. Бывает, за пролет — до ста тысяч, ладони в мозолях и нож не держат. Ничего… Жизнь, конечно, не сладкая, тут не всякий выдержит. А холода, дожди, а то снегом ловушки завалит, расчищай. Словом, нет комфорта, а вот мне нравится…
— Привык?
— А что привыкать — я сам с Полтавщины, сельский парень, с детства в работе.
На миг в дверь заглянула светлоголовая девчонка, на вид совсем пигалица, ойкнула, завидев меня, и, стянув с вешалки полотенце, уже на ходу, из прихожей, обронила:
— Я на пляж, Толь!
— Смотри не сгори, солнце обманчивое.
В ответ раздался лишь цокот каблуков по лестнице.
Изредка поглядывая в окно — не появится ли Дольник, я слушал увлеченный рассказ Анатолия о здешней его работе, как он встает до солнышка и ловит первых пролетных птиц, исхудавших, обессиленных, к вечеру уже набирающих вес для старта, следит за тем, на сколько они тут задерживаются. Определяет в бинокль — наловчился, — какие виды птиц совершают перелет — зарянка ли, дрозд, королек, пеночка, определяет сроки и динамику миграции.
— Иногда мне за час приходилось ловить десятки зарянок, обмерить их, взвесить, окольцевать. — Он произнес эти слова с удовольствием и легкой усмешкой над собой. — Раньше, бывало, их брали на палубах кораблей, часто мертвых, не выдержавших полета, а мы имеем дело с живыми — это совсем другая картина.
И еще сказал, что у него мечта поймать птицу в небе во время полета, вот когда он точно определит их состояние. Но как это сделать? Вот бы запустить шары с куском сетки…
Он мечтательно смотрит в потолок, будто над ним не потолок, а бездонная высь. И я начинаю понимать, какие одержимые люди здесь живут и сколько труда, крупица за крупицей, вкладывается ими в стройную систематику, из которой вырастает наука орнитология.
— А это кто же был? — спросил я Толю, стараясь понять, как он тут один круглый год живет-поживает.
Оказывается, не всегда один. Жена — Лена, лаборантка института, приехала к мужу в отпуск, по вечерам помогает ему, а днем пляжится. Он говорил о ней, как о ребенке, с любящей усмешкой взрослого человека, хотя был моложе ее на год. Детей у них пока нет. Предстоят экспедиции в Среднюю Азию, в пустыни, изучать миграцию в тех широтах. А кроме того, условий пока нет — у Лены небольшая комнатушка в Ленинграде. Квартира нужна. Только это все в перспективе — на какие шиши?
— А зарплата?
— У меня сейчас сто двадцать, у нее на пятерку больше. А нам хватает! Правда, мебели нет, только что поесть да на себя надеть. Ладно, остальное — наживное.
— А родители…
— Ну, — отмахнулся он, — с родителей тянуть не привыкли, сами себе все построим. Что трудом дается, дороже ценится.
В стенку забухали, донесся голос:
— Толь, ты завтракал?
— Я еще до света позавтракал. А что?
— Да там я колбасу оставил, думал, ты не ел, знал бы, не оставлял.
Толя рассмеялся:
— Видал, какая чуткость.
А мне подумалось, что в условиях, в каких они живут, кучкой, длинными месяцами, проблема совместимости очень важна и без взаимной заботы, чуткости вообще никакой жизни быть не могло. Наверное, нелегко было моему неуловимому Дольнику так подобрать людей, почувствовав каждого из них, чтобы создать коллектив — семью, где каждый знает свое дело, а к делу товарища относится с большим уважением, потому что знает цену полевой, ежедневной, кропотливой работе.
И, словно в подтверждение моих мыслей. Толя кивнул на стенку, сказал:
— Вот с кем хорошо бы поговорить, с соседом. Леня — настоящий ученый, с семилетним уже стажем, с опытом и вообще интересный человек.
— А удобно?
Толя грохнул кулаком в переборку.
— Лень! Ты очень занят? Корреспондента примешь? Хороший человек. Словесной рекомендации хватит?
— Пусть заходит.
Комната Леонида Соколова почти не отличалась от той, где я только что был, разве что на столе аккуратно сложены карты и лежала раскрытая рукопись, над которой, очевидно, работал хозяин — худощавый, сероглазый, с интеллигентным, русского склада, лицом, обрамленным шкиперской бородкой. Борода как-то очень шла ему, делая похожим