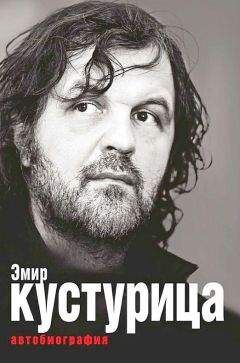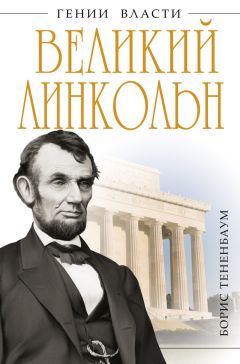— Ну почему все это на меня свалилось, мой Эмир?
— Сенка, что бы это ни было, ты будешь жить! — ответил я, стараясь дедраматизировать ситуацию.
Сенка снова принялась плакать, но по тому, как она обняла меня, я почувствовал, что она мне поверила. Мы отвезли ее в центральную клинику Белграда, где ее прооперировал доктор Йоксимович. Опухоль была не злокачественной, и Сенка быстро пошла на поправку. Когда ее зашел навестить Нелле Карайлич, он не смог скрыть своей радости, увидев ее улыбающейся.
— Нелле, у тебя есть спички? — спросила она его.
— Тебя, Сенка, ничем не убьешь, — сделал вывод Нелле и с удовольствием дал ей прикурить.
* * *
По окончании военных действий палач, опрокинувший бюст Андрича, пожаловался журналистам, что война не принесла ему ничего, кроме осложнений. Он не получил ни медали, ни статуса ветерана войны. Тутумраци выбросили его за ненадобностью. Он не дождался помощи ни от Аллаха, ни от американцев. Потоки воды унесли его дом до самого Байина-Башта. Его желание затопить Сербию вплоть до Дединье не осуществилось. Он не осмеливался вернуться к себе в Незуке, поскольку судебные органы Республики Спрска[107] заочно приговорили его к пяти годам исправительных работ за разрушение бюста Иво Андрича. Сабанович заявил, что он сожалеет о содеянном, что его подтолкнули к этому тутумраци. За этот акт вандализма Бехмен и Ганич пообещали ему магазинчик на улице Дженетич Цикми в квартале Баскарсия. Но, несмотря на то что он выполнил свои обязательства по договору, он ничего не получил. Самым интересным в его случае было то, что теперь он считал Андрича более великим боснийцем, чем тутумраци, толкнувшие его на это преступление. «Я принял в этом участие, так как меня заверили, что это приведет нас в Европу!» — признался Сабанович, прежде чем уехать в Соединенные Штаты.
Я вспомнил о воспитательной мере, которая должна была заставить этого глупого Сабановича прочесть полное собрание сочинений Иво Андрича. Я по-прежнему считаю, что следует принимать подобные меры ко всем недалеким фанатикам. Быть может, это подействует хотя бы на них, раз невозможно добраться до Изетбеговича, который, уверовав в собственную безнаказанность, ополчился на нашего нобелевского лауреата. Президент уготовил Боснии новую жизнь. Он уже обращался к американцам с просьбой завершить войну и составить конституцию государства, в котором он был президентом, поэтому после стольких жертв вполне мог попросить их сварганить для него что-нибудь более интересное, чем протекторат!
* * *
Мне было непросто свыкнуться с мыслью, что я больше никогда не вернусь в свой родной город. Не из чувства вины и не из-за избытка любви к долине, окруженной горами, где расположен Сараево.
Чтобы поставить точку в этой истории, после бесчисленных низостей, последовавших за этой войной, я должен рассказать о чем-то глубоко личном, главным виновником которого является кофе.
Мой родной город стал единственным в мире местом, переставшим предоставлять необходимые условия для выполнения важного ритуала, основной социальной привычки в моей жизни, связанной с моим восточным грехом. Моя единственная серьезная зависимость носит название «консенсуальный кофе». Это кофе, который пьется вместе с людьми, разделяющими ваши взгляды или хотя бы понимающими так же, как вы, смысл песни «Rolling Stones» «Start те up». Беседа вас пробуждает, и при этом ваши собеседники не принимаются доказывать каждый свое мнение. Этот утренний кофе не является демократичным. Вот почему я люблю консенсуальный кофе! Наступающий день, где бы ты ни находился, не имеет шансов начаться хорошо без этого кофе. Без такого ритуала день оказывается вконец испорченным. Считайте, что его просто нет. Пусть это суеверие чистой воды. Слушая меня, какой-нибудь хороший человек решил бы, что все мои рассуждения — не что иное, как ширма, за которой я прячу свое огромное желание вернуться на родину.
— Тебе снится Сараево? — спросил бы он меня.
— Единственный раз во сне я побывал в Сараеве. Это был кошмар: я сидел, съежившись на заднем сиденье машины без номерного знака, которая мчалась по знакомым улицам, заполненным незнакомыми людьми. И это меня потрясло.
* * *
Если бы каким-то чудом в одно прекрасное утро я оказался в Сараеве, то из любопытства отправился бы выпить чашечку кофе в «Сеталист». Для этого кофе, разумеется, был бы необходим консенсус, о котором я рассказывал. Чтобы мы не принялись обсуждать все заново. Ситуация могла бы оставаться под контролем только в том случае, если бы мы вели беседу как гуманисты. В стиле «я люблю все народы, не питаю ни к кому ненависти, отличаю добро от зла и т.п.». Если бы я рискнул, потягивая свой кофе, завести разговор о взаимном количестве жертв, консенсус бы мигом провалился, да и кофе вместе с ним. Поскольку сербам нет прощения: именно мы, сербы, придумали эту войну, так же как и все остальные войны. Если бы меня ненароком занесло в отель «Европа» за второй чашечкой кофе, этот консенсус обязательно подразумевал бы, что все сербы должны быть «изгнаны в Россию». На улице Войводы Степы безо всяких дискуссий было бы четко и ясно сказано, что Гаврило Принцип был террористом. А я бы не смог пропустить мимо ушей подобные заявления. Поскольку, даже если Гаврило убил австрийского эрцгерцога не в Вене, а возле Миляцки, где эрцгерцог был оккупантом, кофе без консенсуса выпить невозможно. Когда я объяснил это одному из своих сараевских друзей, он удивился:
— Черт возьми, зачем тебе обязательно затрагивать такие сложные темы?! Пей спокойно свой кофе, не озвучивай свои мысли, и мир воцарится над Боснией! А потом иди себе своей дорогой!
Этот друг не понимал, что, даже когда я сижу молча, на самом деле я говорю. Я не разделяю лингвистического наследия Вука Караджича[108], девиз которого приобрел силу закона: «Пиши, как говоришь». У меня это правило звучит так: «Пиши, как думаешь!»
«Тот, кто заключил мир со смертью, говорит сердцем».
* * *
Я принес суп Сенке в белградскую клинику, где она поправляется после операции. Я признался ей, насколько меня удручает мысль о том, что я никогда больше не вернусь в Сараево. Она не понимает, откуда взялись эти неожиданные перемены в моем настроении. Она смотрит на меня удивленно, словно спрашивая: «Что это еще за новая причуда?» Моя мать знает, что я обладаю силой и логикой. Как она сама. Сенка дует на ложку, чтобы остудить суп. Делает глоток, затем пытается приободрить меня:
— Все они и мизинца твоего не стоят. А я вернусь туда, как только выйду из больницы. Я не собираюсь оставлять им свою квартиру, даже если умру!