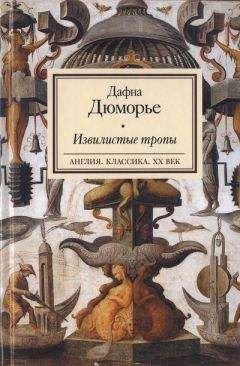Но вот я держу в руках военный билет, смотрю на последнюю в нем короткую запись: «Исключен с учета», и нет покоя в моей душе. Горькая обида лежит у меня на сердце, и хочется мне протестовать и жаловаться кому-то, но протестовать я не могу, а жаловаться некому. Все тут законно и правильно. Вина всему — время.
Ведь запись в военном билете говорит об этом достаточно ясно: «За достижением предельного возраста».
Итак, товарищ майор, до этой последней записи вы находились в запасе. В грозный час вас призвали и вы снова, как тогда, в 1941 году, стали бы в строй. Теперь же, товарищ майор в отставке, пришел срок. Вас тепло поблагодарили за службу, и вы можете быть довольным. Чего же тут волноваться, печалиться, тосковать?
Так думая, я медленно шагаю по комнате и курю папиросу за папиросой. Так утешаю себя, чтобы примириться с мыслью о том, что я вне армии. Так молча прощаюсь я с армией, которая, я знаю, навсегда останется в моей памяти.
На распахнутых дверях моей комнаты между охотничьими ружьями висит офицерская полевая сумка. Она вся исцарапана, потерта, а в двух местах, по углам, на ней небольшие дыры. Сумка до сих пор хранит еле уловимый солоноватый запах конского пота, горький запах степной полыни и пыли многих дальних дорог. В трудных походах сумка была моим постоянным спутником, моей подушкой на нашей земле и в чужих краях. В больших и малых сражениях она бережно сохранила все, что я записывал, готовясь к будущим книгам о войне.
И вот я снимаю сумку, вдыхаю тревожащие душу запахи, и одна за другой возникают передо мной картины минувшего, и вновь сердце мое сжимается оттого, что все незабываемое я не могу, не хочу и не в силах забыть.
Военная присяга — это священная клятва Родине, произносимая каждым солдатом. Кто может забыть ее? Но в миг, когда произносят исполненные глубокого значения и смысла слова, ты как бы стоишь перед всем могучим нашим народом, перед бескрайней советской землей и клятвенно свидетельствуешь о своей готовности защищать мирный труд народа и границы родной земли до последней капли крови. И уже сам ты твердо уверен, что никакому врагу не одолеть тебя, что ты полон мужества и отваги, что будешь честным бойцом, никогда не дрогнешь, не унизишь свою совесть трусостью или черным предательством, что, если придется, ты беззаветно и храбро отдашь свою жизнь за мир, покой и бессмертную славу своей страны.
Разве это можно забыть?
А разве можно забыть силу солдатской дружбы и сурового братства, которые крепли и закалялись на полях сражений? В сырых, тронутых инеем окопах, в блиндажах, на огневых позициях, на рубеже обороны и в неотразимых атаках, в часы короткой передышки между двумя боями и в трудных многокилометровых походах — всюду эта дружба возвышалась потому, что порождена она была не мертвой буквой устава, а вечно живой ленинской идеей освобождения человечества и счастья всех народов.
Скупым на слова, по-мужски сдержанным было и остается наше чувство братства и дружбы. Никто его не выпячивал нарочито, не восхвалял велеречиво. И если надо было делиться последним куском хлеба или последним глотком воды, от всего сердца делал это. Сами страдая от потери крови, теряя сознание, наши солдаты уносили с поля боя тяжело раненных товарищей. В грозное мгновение, когда смерть смотрела в глаза, они грудью своей закрывали от смерти товарища и друга. Этого забыть нельзя.
Нельзя забыть и того, что всегда делало нашу армию одним миллионноруким, неодолимым великаном, — железная солдатская дисциплина, не палкой и окриком рожденная, а высоким сознанием, чувством сыновнего долга перед Отечеством и народом.
Я стою у окна, и одна за другой возникают перед глазами картины недавнего прошлого, напоминая о годах моей службы в армии.
Горящие села и города. Солнце, окутанное дымом пожарищ и рыжей пылью разрушенных кирпичных домов, гул сражений с грохотом пушек, вражеских бомб, отрывистый лай пулеметов, громыхание танков. Черные от мороза и копоти лица боевых товарищей. Дороги отступлений в знойных, пахотных степях. Непрерываемые бои в горах, на берегах больших рек и никому неведомых безымянных речушек. Радость нашего наступления. Унылые лица пленных фашистов. Штурм Берлина — этого мрачного гнездовья гитлеровских стервятников. Могилы наших товарищей, разбросанные в полях и лесах, на лугах и болотах нашей и чужой земли. Подписание добитыми гитлеровцами акта о безоговорочной капитуляции, и вовсю цветущая сирень первой весны мира. Парад Победы, осененный гордыми боевыми знаменами родной армии, чеканный шаг гвардейской пехоты, звонкие эскадроны конницы, колонны танков и дивизионы артиллерии на Красной площади.
С тех пор много воды утекло.
Иной, неизмеримо более мощной стала наша армия. Народ вручил ей оружие невиданной силы. С каждым годом в Советской стране ширится и повышается образование, и каждый год в армию на смену отслужившим свой срок приходят молодые солдаты, образованные юноши, которые быстро осваивают сложнейшие математические расчеты, успешно изучают новое оружие.
Из окна моей комнаты хорошо видна река, прибрежные тополевые леса и засыпанная снегом равнина. И я, стоя у окна, думаю о тех, кто сегодня идет служить в армию, и о тех, кто в свое время сменит их, отслуживших. Хорошей, светлой завистью я завидую им и невольно повторяю давно полюбившиеся мне строки:
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски…
Недавно снежным зимним вечером мои соседи-одностаничники провожали в армию молодого румяного парня, который вырос у меня на глазах. В жарко натопленном доме на накрытых чистыми скатертями столах красовалось все, чем богата донская станица: вяленые рыбцы и шамайка, запеченные в духовке, начиненные кашей чебаки, моченый виноград, красное виноградное вино. В доме яблоку негде было упасть. Собрались все соседи: рыбаки, виноградари, пасечники, трактористы, кузнецы.
Не было тут ни слез, ни причитаний, как когда-то бывало. Лихой баянист без устали играл разудалую «барыню», «сербиянку», «яблочко», польки и вальсы. А одетая в праздничные костюмы молодежь отплясывала так, что звенели графины на столах и дрожали стены. А в перерыве между танцами, когда девчата и парни, утомившись, вновь уселись за столы, седоусый кряжистый казак, один из прославленных рыбаков станицы, пристально посмотрев на юного призывника, заговорил тихо и торжественно:
— Вот чего, сынок. Идешь, значит, служить в нашу геройскую Советскую Армию и должон ты помнить, чего это такое. А это вопрежь всего великая честь для каждого мужика. Так спокон веков бывало. Народ доверяет тебе оборону нашей страны, и ты не посрами себя, оправдай доверие. Ты будешь служить в армии, которая всегда славилась своей удалью. И командиры на нашей земле завсегда бывали такие, что перед ними никто не мог устоять: Фрунзе, Чапаев, Щорс, Буденный Семен. Довелось мне с Семеном Михайловичем и белогвардейских партизанов рубать, и под Варшавой ходить на польских панов… А деда Медного старой станицы знаешь? Этот дед в орденарцах у Олеко Дундича был. Нехай он расскажет тебе про героев гражданской войны, много он их повидал.