огромному количеству людей, которые могут оказаться весьма полезными Риму» [60].
События, как наверняка заметила Клеопатра, развиваются стремительно. Она срочно требует встречи с Октавианом, и 8 августа он приходит. И хотя в общих чертах описания этой встречи у Плутарха и Диона схожи, мизансцены различаются кардинально. Плутарх словно пишет для Пуччини, Дион – для Вагнера. Пускай в обеих вариациях больше художественного вымысла, чем реальности, – все равно эпизод получился очень сильным (и очень живым, по сравнению с описанием встречи Ирода с Октавианом). Итак, поднимается занавес. В режиссерской версии Плутарха на сцене стоит простая кровать, на ней – слабая, растрепанная Клеопатра в одной тунике, без покрывала. Октавиан появляется без предупреждения. Она тут же вскакивает и бросается ему в ноги. Эта страшная неделя явно далась ей нелегко: «Ее давно не прибранные волосы висели клочьями, лицо одичало, голос дрожал, глаза потухли, всю грудь покрывали еще струпья и кровоподтеки, – одним словом, телесное ее состояние, казалось, было ничуть не лучше душевного» [61]. Дион, напротив, показывает нам Клеопатру в царственном великолепии, во всем блеске ее лживой, двуличной натуры. Она богато убрала комнату и роскошную постель к приходу посетителя. Она при полнейшем параде, причесана, одета в красивое траурное платье, «которое очень ей шло» [62]. Входит Октавиан. Она по-девчоночьи вскакивает и оказывается лицом к лицу со своим смертельным врагом, почти наверняка это их первая в жизни встреча. Октавиан уже давно приобрел весьма мужественный вид – во всяком случае, его пиарщики стараются вовсю: невероятно обольстительный, «он привлекал к себе взоры всех», позже напишет Николай Дамасский [63]. Клеопатра должна почувствовать некоторое облегчение. Перед ней стоит всего лишь мужчина, ростом чуть выше 170 сантиметров, с взъерошенными светлыми волосами, добродушным лицом, лучше изъясняющийся по-латыни, чем по-гречески, младше ее на шесть лет, бледный, нескладный и смущенный.
Кто-то здорово разукрасил текст источника, и сложно поверить, что это был не Дион. Его рассказ так кинематографичен, что выглядит слишком вычурным даже для эпохи эллинистических цариц. Впрочем, не будь Клеопатра склонна к драматическим эффектам, никогда бы не продвинулась так далеко. Итак, вернемся к постановке. На постели рядом с ней разложены бюсты и портреты Цезаря. У сердца она держит его любовные письма. Она обращается к Октавиану «мой господин», но в то же время хочет, чтобы он помнил, кто она такая. Он должен знать, как высоко божественный Цезарь, его отец, ее любовник, ценил ее. Она начинает зачитывать куски его писем, выбирая самые пылкие, – Октавиан не единственный умеет правильно преподнести документ. Она – сама скромность, мягкость, кротость. Они же связаны друг с другом! Ведь правда, Октавиан слышал о множестве почестей, оказанных ей Цезарем? Она друг и союзник Рима, в конце концов, сам Цезарь ее короновал! Во время этого представления она беспрестанно «плачет и целует письма, и снова падает ниц перед его изображениями» [64]. И при этом не забывает бросать нежные взгляды на Октавиана, ненавязчиво пытаясь заменить одного Цезаря другим. Теперь она делается соблазнительной, красноречивой и дерзкой – но, естественно, не производит никакого впечатления на Октавиана с его истинно римской высоконравственностью, это для Диона особенно важно. Он не выражает ни тени эмоций. Его не купить призывными взмахами ресниц. Он всегда гордился умением прожигать собеседника взглядом, но сейчас отказывается от своего оружия, предпочитая смотреть в пол. И не дает никаких обещаний. И не говорит – вообще-то он был до абсурдного лаконичен и сейчас, возможно, не решается отклоняться от написанного заранее – о любви, о будущем Египта и о детях Клеопатры. Дион сфокусирован на отсутствии у Октавиана эмоций, однако здесь явно отсутствует кое-что еще: Клеопатра не требует вознаграждения за сдачу Пелузия и флота Антония или за подталкивание своего любовника к самоубийству. Может быть, потому что ничего этого не было? Ведь если уж она выполнила свою часть сделки, почему бы не потребовать выполнения его части? А она лишь разражается рыданиями и бросается в ноги к Октавиану. Она больше не хочет и не может жить. Он же окажет ей последнюю услугу в память об отце? Нельзя ли ей присоединиться к Антонию в смерти? «Не откажи похоронить меня вместе с ним, – умоляет царица, – ведь раз я умираю из-за него, да пребуду с ним вовеки и в Аиде» [65]. И снова ей не удается разжалобить Октавиана или хотя бы добиться от него намека на обещание. Он только призывает несчастную женщину не падать духом и не терять надежд. Царица нужна ему живой. Она будет превосходным украшением его триумфа.
У Плутарха Клеопатра слабее физически, но сильнее духом. Эта версия тоже не может считаться эталоном правдивости только оттого, что основана на словах доктора царицы: тогда все вдруг стали рассказывать свои истории. В этом прочтении Октавиан вежливо просит ее вернуться обратно на ложе и садится рядом. Она начинает разматывать клубок оправданий примерно так же, как делала в Тарсе, оправдывая свои поступки «страхом перед Антонием или принуждениями с его стороны» [66]. Когда Октавиан один за другим опровергает ее аргументы, царица меняет тактику и обращается к жалобам и молитвам. В итоге она просит сохранить ей жизнь. У Плутарха мы видим в ней отчаяние и величие, в то время как у Диона – только отчаяние. Здесь нет соблазнительных ноток, которые наверняка были добавлены позже: самые разные хроникеры будут потом писать, что она не раздумывая кидалась к самым разным ногам [67]. Разумеется, у литературной Клеопатры намного больше метаний, чем у настоящей. Если отбросить явные домыслы и удобные искажения, Дион и Плутарх сходятся в главном. Растрепанная или нет, царица все равно прекрасна: «ее прелесть, ее чарующее обаяние обнаруживались в игре лица» [68]. Она остается гибкой и практичной, меняя «музыкальные ударения», «тембр голоса» [69] и доводы по ходу развития событий. Она недоедает и не здорова, но отважна, как всегда. В обоих сценариях она приводит Октавиана в крайнее замешательство.
Поняв, что ее мольбы не работают, Клеопатра вытаскивает свой последний козырь. Она заранее составила опись своих драгоценностей и теперь отдает ее Октавиану – как бы сдается на милость победителя. Октавиан читает, а один из ее управляющих, Селевк, делает шаг вперед. Следует эпизод, который не льстит никому из присутствующих. Селевк не может молчать: Клеопатра опустила несколько особенно дорогих позиций. Он обвиняет свою царицу перед Октавианом в том, что «какие-то вещи она похитила и утаила» [70]. Тогда Клеопатра вскочила с ложа, «набросилась на него, вцепилась ему в волосы, била по лицу». Не


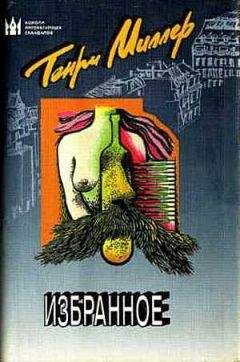
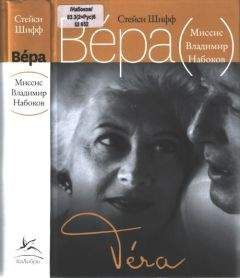

![Сильвия Дэй - Сплетенная с тобой [Entwined with You]](https://cdn.my-library.info/books/2818/2818.jpg)