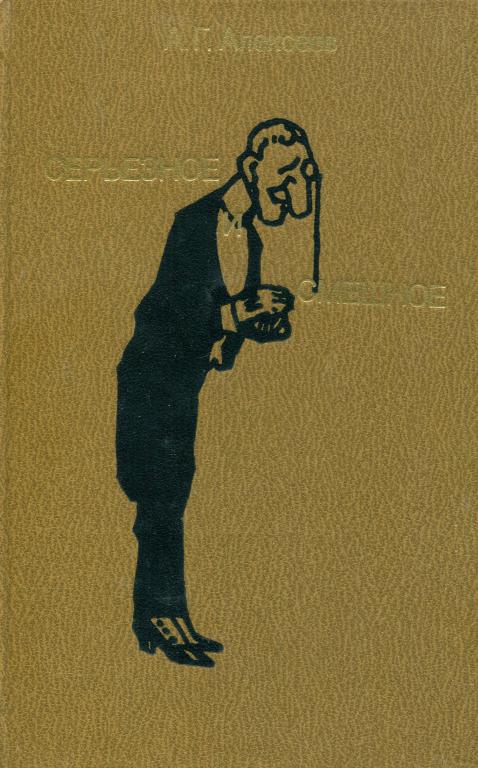образом дочери, племянницы и тети врачей — вундеркинды всех возрастов. И я заскучал. Тогда и в зал заползла скука… Тяну, тяну… И наконец получаю записку: «Товарищ Алексеев, почему вы сегодня такой нудный?» Приятно получить такой отзыв, не правда ли? Даже не скучный, а нудный…
А после концерта кассир, который давал артистам конверты с деньгами, человек явно не из дипломатического корпуса, просто сказал мне, указав, где расписаться:
— Легкие у вас деньги: походил-походил, пообъяснял и получай. Мне бы так хоть месяц пожить…
Полный провал…
И я сгорал со стыда, а выйдя на улицу, бил себя кулаком по щекам… Ибо не только себя опозорил, но и невольно подтвердил слушки и разговорчики о том, будто актеры — бездельники, легко зарабатывающие большие деньги.
А бывает наоборот. Те же 20-е годы. Концерт в Клубе имени Каляева. Я там впервые. Актеры на месте, публика уселась, пора начинать. Подходит ко мне тамошний распорядитель, похожий на коменданта.
— Это вы тот самый (читает по ведомости) кон-ферансе?
— Я.
— А вы что делаете? Фамилии объявляете? И за это столько денег вам?
— Если вам не подходит, я могу уйти…
— Да нет уж, раз пришли, чего там… (со вздохом) объявляйте.
В первый момент это меня обозлило, расстроило, но потом я взял себя в руки и «назло ему» провел концерт в хорошем темпе и весело.
Подходит ко мне «комендант». Смеется.
— Послушай, конферансе, чего ж ты к нам раньше не приезжал? А?!
А растеряйся я от злости, опять был бы провал и «комендант» оказался бы правым: «за это столько денег?»
А был и такой случай, когда провал помог мне. Я уже рассказал о том, что во время первой империалистической войны артисты организовали общество «Артист — воину», давали концерты, спектакли, собирали деньги на подарки солдатам. В 1916 году я по дороге на юг заехал на два дня в Москву, и меня попросили провести такой концерт в помещении, где сейчас Театр имени Пушкина.
Очень волновался, проклинал себя, что согласился, ведь никогда в Москве не выступал, никто меня не знает. Как начать? Выхожу за занавес, начинаю говорить и… (вся авансцена была покрыта скользким сукном) проваливаюсь в суфлерскую будку, весь, только голова осталась на сцене. Подтянулся! Выбрался! Отряхнулся! И говорю:
— Не везет! В первый раз в жизни выступаю в Москве… и провалился!
Смех, аплодисменты — контакт установлен, я спасен!
А потом актеры (скептики) спрашивали: «Это вы нарочно?»
А?! Представляете себе?! Шлепнуться! Провалиться!! Едва удержаться! И все это для того, чтобы озадачить зрителя!
А я любил иногда озадачить аудиторию, ввести ее в заблуждение. В 1939 году чествовали мы Владимира Ивановича Немировича-Данченко в связи с двадцатилетием его музыкального театра. На сцене представители всей театральной Москвы. Адрес, который читала, если не ошибаюсь, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, заканчивался разными пожеланиями и среди них, конечно, «еще много-много лет плодотворной работы». При этих словах Владимир Иванович, человек тонкого юмора, вынул из кармана паспорт, показал, улыбнулся и пожал плечами: куда, мол, мне еще много-много лет! (Кстати, этот «экспромт» был покрыт аплодисментами.)
Потом все перешли в партер, только я остался на просцениуме вести концерт. Еще раз поздравив Владимира Ивановича уже от себя лично, я продолжал:
— Тут говорили про вас, Владимир Иванович, что вы умели тонко распознавать в людях талант. Конечно, это верно… Но я знаю случаи, когда вы ошибались в людях…
В партере начинают переглядываться: что-то Алексеев бестактное говорит… А я продолжаю:
— Я знаю одного артиста… Человек довольно способный, занимает положение в театре, публика его любит, а вы его выгнали из театра…
В партере нервничают, становится неловко… Глаза у всех опущены в землю.
— Кто это? — спрашивает удивленный Владимир Иванович.
Пауза… И я с наивным видом говорю:
— Я.
— Где? Когда?
— В 1906 году. Во время гастролей Художественного театра в Берлине ваш администратор обратился ко мне — я был председателем правления русской студенческой библиотеки — с просьбой прислать группу студентов для массовой сцены в «Царе Федоре Иоанновиче». Я привел несколько человек и сам, конечно, заявился. Вы, лично вы, всех приняли, меня одного прогнали! Ростом не вышел для боярина!
Был общий смех и радость оттого, что назревающая бестактность оказалась не бестактностью, а шуткой.
Смертный грех, в котором порой обвиняют конферансье, — мелкотемье. А я не согласен! Не за мелкотемье надо корить, а за однотемье. Одно время злобой дня было отсутствие безразмерных носков, и все конферансье влачили эти носки из концерта в концерт до полного износа. Вот с таким однотемьем следует бороться! А мелкотемье — что это такое? Мне кажется, что этот термин — порождение тех недавних времен, когда наш быт, наши малые домашние и общественные интересы считались пустяками, не стоящими внимания. Если смеялись над плохим ремонтом квартиры или обуви, над скверной починкой телевизора — мелкотемье! Издевка над невежливым продавцом или наглым хулиганом — мелкотемье! А уж поиздеваться над нерадивым или жуликоватым завмагом или управдомом, да еще назвать его по фамилии — что вы! Вот когда это перерастает в большое общественное явление — тогда пишите! А так — нет, мелкотемье!
Вот как было! И хорошо, что теперь конферансье не только может, но должен бичевать виноватых в том, что где-то неуютно, кто-то невежлив, кто-то нагл! Хорошо, что можно (нужно!) смеяться над тем, кто не приготовил парню, идущему на свидание, красивых носков и по моде сшитого костюма!
Но нехорошо, когда все кидаются на одного; пусть один — на одного, другой — на другого… И пусть при этом задумываются над тем, что за малыми неурядицами скрываются большие проблемы. А не то получится… не мелкотемье, а мелкодумье!
Один из злейших врагов юмора — пошлость. Правда, эта дама своим присутствием отнюдь не украшает и другие виды искусства, но в юморе она особенно заметна и удачнее всего компрометирует его. К несчастью, у нас часто словом «пошлость» подменяют другие понятия. И слова «цинизм», «неприлично» мы слишком щедро бросаем там, где сама тема, тон насмешки извиняют некоторую фривольность. «Что красиво, то и морально, — вот и все, больше ничего. Поэзия, как солнце, золотит навоз. Тем хуже для тех, кто этого не видит». Это из письма Флобера Мопассану 19 февраля 1880 года по поводу привлечения его к суду «за оскорбление нравов и общественной морали».
И совсем иной план: Шолохов не боится смеяться над «неприличием» Щукаря, над его поступками и цитировать его «несалонные» словечки, а Щукарь стал любимым персонажем чтецов и рассказчиков на эстраде.
Застраховавшись такими авторитетами, как Флобер, Мопассан и Шолохов, я хочу рассказать вам об одном