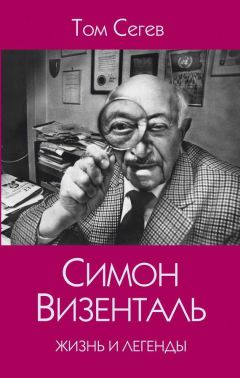Он неуверенно присел на край кровати, но раненый попросил его придвинуться ближе. «Мне осталось жить мало. Я знаю, что мой конец близок, – прошептал он и замолчал. Визенталь тоже ничего не говорил. – Я знаю, сказал раненый, что погибло много людей, но прежде, чем я верну свою душу Творцу, я должен сбросить с себя мучительный груз; иначе я не смогу умереть спокойно».
Визенталь чувствовал, что раненый пристально смотрит на него сквозь бинты, покрывавшие глаза. Он объяснил, что одна из медсестер, которая принесла ему и прочитала вслух письмо от матери, сказала, что во дворе госпиталя находятся арестанты-евреи, и он попросил ее привести одного из них к нему. Визенталь подумал было, что раненый – еврей, захотевший перед смертью вернуться в лоно своего народа, но тут раненый представился. Визенталь упоминает только его имя, Карл.
Карл был эсэсовцем. Он взял Визенталя за руку, крепко ее сжал и сказал, что должен поведать ему об ужасном преступлении, совершенном им год назад. Его матери об этом знать нельзя, но он обязан рассказать об этом какому-нибудь еврею. Визенталь не испугался: не было такого кошмара, с которым бы он уже не сталкивался. Тем не менее он чувствовал себя не в своей тарелке. Он понял, что солдат хочет перед ним исповедаться, и подумал, что когда-нибудь на его могиле вырастет подсолнух.
«Я не родился убийцей», – заговорил солдат. Он был из Штутгарта, ему шел двадцать первый год. «Я слишком молод, чтобы умирать, – сказал он. – Я еще не успел насладиться жизнью». Визенталь подумал о детях, которых убили нацисты, и умирающий эсэсовец словно прочел его мысли. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете, но разве мне нельзя сказать, что я умираю слишком молодым?» Его отец был рабочим, членом социал-демократической партии, и с приходом к власти нацистов у него, как и у многих других, были неприятности. Мать воспитывала Карла в духе католицизма, но он стал нацистом и, когда началась война, добровольно вступил в СС. За дверью послышался голос медсестры, приведшей Визенталя к раненому.
Эсэсовец рассказывал свою биографию очень подробно, и Визенталь недоумевал, почему тот не говорит ему, чего он от него, собственно, хочет, и тут наконец раненый начал рассказывать про то, что случилось в августе 1941 года, когда он участвовал в штурме Днепропетровска, большого города на востоке Украины. Он описал, как они с боями захватывали дом за домом, и сказал, что на одной из улиц стояла группа евреев. Их было человек сто пятьдесят или двести, и среди них были женщины с грудными детьми на руках.
Подъехал грузовик, нагруженный бочками бензина, и эсэсовцы приказали нескольким еврейским парням занести бочки в один из домов. Парни подчинились. После этого эсэсовцы начали с руганью загонять в этот дом евреев. Они били людей ногами, а один из них хлестал их кнутом. Дом был небольшой. Через несколько минут все евреи оказались уже внутри.
«Он замолчал, – пишет Визенталь, – и мое сердце сильно забилось». Что произошло дальше, вообразить было нетрудно. «Я и сам, – пишет он, – мог находиться среди тех евреев». Приехал – снова заговорил раненый – еще один грузовик с еврееями, и их тоже загнали в дом, после чего эсэсовцы заперли двери. Визенталь встал, чтобы уйти, но раненый попросил его остаться. Эсэсовцы отошли на несколько шагов и стали бросать в дом гранаты. Дом запылал.
Возле одного из окон на втором этаже стоял мужчина с ребенком на руках, а возле него – женщина, по-видимому мать ребенка. Мужчина прикрыл ребенку глаза рукой и выпрыгнул из окна. Мать прыгнула следом. Эсэсовцы их застрелили. Другие люди тоже начали прыгать из окон; некоторые были охвачены пламенем. Эсэсовцы застрелили и их.
Визенталь вспомнил шестилетнего мальчика по имени Эли, которого встречал иногда в львовском гетто. Однажды он увидел, как Эли подошел к одному из домов, встал на цыпочки и стал сгребать с подоконника крошки, насыпанные кем-то для птиц. Визенталь запомнил это на всю жизнь. «У него, – пишет он, – были пытливые глаза, которые не могли понять и не могли простить». Раненый эсэсовец продолжал говорить. Он сказал, что осознает теперь свою вину и что скоро он умрет. Однако чтобы умереть спокойно, ему нужно, чтобы какой-нибудь еврей его простил. Он попросил, чтобы это сделал Визенталь.
Визенталь посмотрел на окно; снаружи сияло ослепительное солнце. «Вот, – пишет он, – два чужих друг другу человека, которых судьба свела всего на несколько часов. Один из них просит помощи, а второй столь же бессилен, как и первый, и не может сделать для него ничего». Он встал и посмотрел на раненого. Его руки были сложены на груди, и Визенталь представил, что между ними растет подсолнух. «Наконец, – пишет он, – я принял решение, и, не сказав ни слова, вышел из комнаты». Медсестры, которая его привела, в коридоре уже не было, и он спустился по лестнице один. Врачи и медсестры вновь провожали его взглядами, полными изумления. Он вышел во двор и присоединился к своим товарищам.
Его лучшими друзьями были Артур и Юзек. Юзек был верующим. «Его вера давала ему ответы на любой вопрос, и я мог ему только завидовать», – пишет Визенталь. Он шутливо называл Юзека «раввином». Как-то раз они говорили о сотворении человека, и один из них выразил сомнение, что узники концлагеря и его комендант сотворены из одной из той же материи. Как, недоумевали они, Бог вообще допускает существование концлагеря? Циник Артур сказал, что Бог, по-видимому, ушел в отпуск. Визенталь отправился спать и попросил разбудить его, когда Бог вернется. Все рассмеялись, но идея о том, что Бог в отпуске и у него нет заместителя, прочно врезалась Визенталю в память.
Выслушав его рассказ, друзья ограничились тем, что выразили удовлетворение по поводу смерти эсэсовца. «Одним меньше», – сказали они, а кто-то из них добавил, что Визенталю завидует: сам он был готов видеть умирающих эсэсовцев хоть по десять раз на дню.
«Раввин» Юзек обрадовался, узнав, что Визенталь раненого не простил. «У тебя не было никакого права это делать, – сказал он. – Если ты хочешь простить кого-то за то, что он сделал тебе, это дело твое, но прощать за то, что сделано другим людям, – тяжкий грех, и тебе пришлось бы носить его до конца своих дней». Однако у Визенталя были сомнения. «Разве мы все не принадлежим к одной и той же общине, и разве у нас не одна и та же судьба?» – спросил он. Юзек попытался рассеять его сомнения, сказав, что поступил бы точно так же хотя бы потому, что верит в загробный мир. Что, сказал он, ты ответишь убитым в Днепропетровске, когда они спросят тебя, по какому праву ты даровал их убийце прощение? Но Визенталя это не убедило; ему показалось, что убийца раскаялся. Разве раскаяние ничего не значит? «Если бы ты его простил, – вступил в разговор Артур, – ты бы не простил себя за это никогда». По его мнению, Визенталь вообще придавал всей этой истории слишком большое значение. Визенталя это обидело.