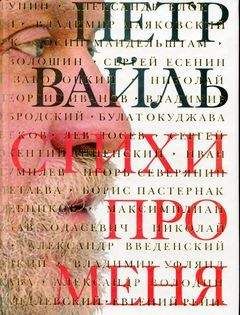Авангард довел до предела важнейшее открытие за многовековую историю человеческой мысли — открытие романтизма, он же индивидуализм (эпоха, освященная великими именами Наполеона, Байрона, Бетховена): автор равен произведению. В футуризме (а потом в поп-арте) само явление художника стало главным актом творчества. Отсюда естественная тяга авангардистов к социальности, озабоченной процессом, всегда готовой видеть результат в отдаленности поколений и десятилетий. Ведь и павки Корчагины воодушевленно гибли за мировую революцию, даже отдавая себе отчет в том, что победит она за пределами их жизней.
Передовые художники были переполнены азартной предприимчивостью. Про такую энергию говорят: ее бы в мирных целях. Здесь — согласно теории менеджмента — профессиональная компетентность не совпадала с компетентностью моральной. Потерянность в хаосе перемен: неясно, что делать и чего хотеть. Как в анекдоте о девочке, которая заказывает золотой рыбке желания: чтобы уши стали большими и волосатыми, нос закрутился штопором, вырос длинный хвост. Всё исполнив, рыбка удивляется, почему у нее не попросили принца, дворцов, денег. Девочка озадачена: "А что, можно было?"
Когда не знаешь, как поступить, надо быстро совершить поступок. Какой-нибудь. Эту психотерапевтическую рекомендацию авангард усвоил стихийно. Протест против старого искусства был тем решительней, чем примитивнее. В России более радикально, чем где-либо, исполнялся завет Сезанна: "Трактуйте природу посредством цилиндра, шара, конуса". Сведение к формуле. "Египетско-греческо-римско-готический маскарад" (определение Эль Лисицкого) заменяется геометрической конструкцией. Традиция не только не нужна, но и вредна как помеха. Эстетическая — и, как следствие, социальная — хирургия. Кубизм и кубофутуризм производят разложение сложных форм на простые. В общественной жизни такое упрощение и есть — революция.
Чем ниже степень культурной укорененности, тем легче дать по морде — эмпирически это известно каждому. Футуристов захватывал пафос мятежа и погрома.
"Эй, молодчики-купчики, / Ветерок в голове!/ В пугачевском тулупчике / Я иду по Москве!" — восклицал Велимир Хлебников. Что-то путал при этом, видно, давно читал "Капитанскую дочку", забыл, что тулупчик все-таки дарованный дворянский, с плеча Петруши Гринева. Да где там перечитывать — некогда, время бунтовать, хотя бы на страницах. Та же лихость у Хлебникова в очерке "Октябрь на Неве", в поэмах "Ночной обыск", "Переворот во Владивостоке", в разных стихотворениях. "Его умел, нагой, без брони, / Косой удар ребром ладони, / Ломая кости пополам, / Чужой костяк бросать на слом" — какой пацанский (в обоих значениях) восторг перед силой.
Василий Каменский о Стеньке Разине написал роман, поэму и пьесу, о Пугачеве — поэму и пьесу.
В брошюре "Черт и речетворцы" Крученых изображал испуг мещанина перед Достоевским: "Расстрелять, как Пушкина и Лермонтова, как взбесившуюся собаку!", но сам автор и его друзья в манифесте футуристов "Пощечина общественному вкусу" предлагали поступить с Пушкиным (заодно с Достоевским и Толстым) не лучше: "Бросить с парохода современности". Почти всегда самый знаменитый пассаж из "Пощечины" цитируется с ошибкой: "сбросить". При обсуждении манифеста Маяковский сказал: "Сбросить — это как будто они там были, нет, надо бросить с парохода". То есть не избавиться от старых мастеров, как от балласта, а именно произвести показательную казнь: сначала втащить на верхотуру, а потом швырнуть за борт. Как княжну.
Работа со схемой сильно облегчает всё. Вахтангов говорил о Таирове, создателе Камерного театра, упомянутого в рейновском "Авангарде": "У него есть чувство формы, правда, банальной и крикливой. Ему недоступен дух человека — глубоко трагическое и глубоко комическое ему недоступно".
Здания на чертежах не рушатся с грохотом, закладывающим уши, и пылью, разъедающей глаза. Человек в анатомическом атласе разнимается на части безболезненно. Когда Крученых пишет "Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами", он ничего прикладного не имеет в виду. Но можно пойти и дальше, создав, как Хлебников, поразительный историко-религиозный гибрид: "Был хорош Нерон, играя / Христа как председателя чеки". А в поэме, так и названной "Председатель чеки", сообщить: "Тот город славился именем Саенки. / Про него рассказывали, что он говорил, / Что из всех яблок он любит только глазные". Нет, сам Хлебников не прославляет члена харьковской ЧК С.Саенко, но положительному герою его поэмы тот явно симпатичен: "Как вам нравится Саенко?" — / Беспечно открыв голубые глаза, / Спросил председатель чеки".
Авангардисты оказались естественными союзниками большевиков, оформляя и вдохновляя пафос разрушения. Оттого после победы логично пошли во власть, перейдя, по выражению Лисицкого, от "базаров идей" — к "фабрикам действия". Общество рассматривали как поле художественного эксперимента. В устоявшихся социумах это было бы невозможно, в одной отдельно взятой России — вполне. В этой стране слов слово шло на слово. Образ на образ — буквально: черный квадрат на икону. Мантра на мантру: "Дыр бул щыл" на "Отче наш".
Новое слово и новый образ были смелыми, броскими, громкими — против старых и стертых. За старыми, как оказалось, не было ничего, кроме звука и ритуала. Непонятный церковнославянский воспринимался тысячелетней заумью: на русский язык Писание перевели только в 60-е годы XIX века и толком не успели прочесть. Никогда не было того, что скучно именуется гражданским обществом и составляет костяк всякого организованного человеческого скопления. Государственные установления рассыпались с дивной легкостью потому, что были не институтами, но заклинаниями. А уж в заклинаниях художники знали толк лучше.
Оттого-то уваровскую триаду стало возможно чуть встряхнуть за ушко на солнышке, слегка переименовав, — и она стала служить совсем другому государству. А потом снова возродилась, совсем уже в оригинале: православие-самодержавие-народность — подлинный девиз России начала XXI столетия. Почему бы не служить и не возрождаться, если под лозунгом лежит аморфный, вязкий, трудноопределимый национальный характер, но нет за ним цивилизационных общественных основ — только идеология, то есть всё те же слова. Авангард в начале XX века и ударил по ним своим ослепительным и оглушительным лексиконом.
Художник и диктатор близки друг другу полной и безусловной властью над своим творением. Поэт заменяет строку, композитор выбрасывает такт, живописец замазывает фигуру, прозаик переставляет абзацы — тиран делает все то же, только с людьми.