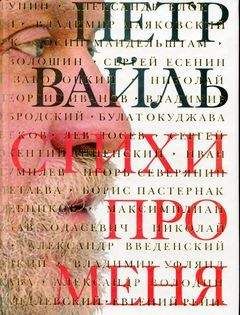"Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка-мать вывозит дочку в скверик. Неугомонный Терек там ищет третий берег". По сути, выпуск новостей — нынешних, поскольку в 77-м Терек не искал ничего особенного.
"Там при словах "я за" течет со щек известка". Речь, очень похоже, о том, что называется творческой интеллигенцией.
"Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади". За четверть века предсказание о первом лице государства.
"И карта мира там замещена пеструхой, мычащей на бугре". Бурные парламентские аплодисменты.
"Там вдалеке завод дымит, гремит железом, не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым". Официально это именуется "нерентабельное производство" либо "задолженность по заработной плате".
"Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот". Не флаг, так гимн.
"Но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот". Цитата из министерского отчета.
"Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен". Кто это сказал: серые начинают и выигрывают? ("Город типа доски для черно-белых шахмат, / где побеждают желтые, выглядит как ничья").
"Пятая годовщина", как водится в большой поэзии, — не об этом. Главное — о поэте, о языке, о судьбе. "Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. / Зане не знаю я, в какую землю лягу. / Скрипи, скрипи, перо! Переводи бумагу". Смирение и гордость, надежда и тревога. Но ведь и о том тоже, неизменном во все времена российской истории: "Там говорят "свои" в дверях с усмешкой скверной".
Бродский от этой усмешки и уехал. Помню, как на конференции в Петербурге (2002 год) земляки поэта один за другим называли дату отъезда "печальной", с чем соглашаться не хочется. Поэтический глобус Бродского — беспрецедентно для нашей словесности — равен глобусу географическому. Нью-Йорк, Средний Запад, Мексика, Швеция, Париж, Англия и Новая Англия, не говоря о Венеции и Риме, — не места проживания или пребывания, а художественные события, равноценные у Бродского явлению Петербурга-Ленинграда. "В каких рождались, в тех и умирали гнездах", — написал он не о себе. А о себе — в стихах о Риме: "Усталый раб — из той породы, что зрим все чаще, — под занавес глотнул свободы". Отъезд 4 июня 1972 года был переездом из России в мировую культуру.
Из тех питерских выступлений, и многих других тоже, особенно после смерти, особенно после окончательного "не приедет", "не приехал", выступает явственный, хоть и не произнесенный, вопрос: "Как относился к родине?" Трепетно, трепетно относился. Поэт, написавший в показательно несправедливой ссылке стихотворение "Народ" ("мой народ, терпеливый и добрый народ", "да, я счастлив уж тем, что твой сын!", "путь певца — это родиной выбранный путь"), вряд ли нуждается в мировоззренческих пояснениях.
Здесь диагностика идет именно что по позвоночному столбу, по самой основе. Богатейший русский язык — язык изгнанника Иосифа Бродского, гражданина Соединенных Штатов Америки, похороненного в Венеции.
Да, цветы "там" не пахнут, и скопленье дурачья — рекордное, но берусь утверждать, как растерянно и застенчиво был бы счастлив Бродский, когда бы узнал, что его стихи участвовали в психотерапевтическом возвращении к нормальной жизни детей, переживших в сентябре 2004 года трагедию в Беслане. О том, как читала и обсуждала с бесланскими школьниками стихотворения Бродского, пишет учительница с пушкинским именем Эльвира Горюхина, озаглавив свои заметки: "Я твоя мама. Я ничего не боюсь".
Сергей Гандлевский 1952
Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал,
И совершал поступки эти,
Другие, нет, не совершал;
Когда помалкивал и вякал,
Мотал и запасался впрок,
Храбрился, зубоскалил, плакал —
И ничего не уберег;
И вот теперь, когда я умер
И превратился в вещество,
Никто — ни Кьеркегор, ни Бубер
Не объяснит мне, для чего,
С какой — не растолкуют — стати
И то сказать, с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной...
1995
Здесь как в изъяснении снов, где единственный критерий безошибочен: если внезапно чувствуешь, что истолковано верно, — это оно! Значит, психоаналитик тонкий и понимающий. То, что он тебе рассказывает, на деле и приснилось, а не тот запутанный мультфильм, который запечатлелся в памяти.
Мне-то ничего не снится — то есть по-научному так не бывает, считается, что снится всем и всегда — вероятно, просто не запоминается. А когда запоминается — всё ничтожно до обидного. Мои знакомые в своих сновидениях и Чеховыми случаются, Антон Палычами, и президентами разных стран, и кинозвездами, и диковинными животными, а мое высшее достижение, в конце 90-х — член какой-то украинской делегации на переговорах с российской. Ведь задолго до "оранжевой революции". Посмотрел бы я на этого Фрейда.
Сновидческая тупость, мне кажется, каким-то образом восполняется острой чувствительностью к языку, который тоже — необъяснимая, неуправляемая, во многом подсознательная стихия. Болезненно трогают языковые проявления — фонетика, морфология, синтаксис, да и вообще все то, что бессмысленно проходили в школе, не подозревая, что это и есть гамма жизни, сама жизнь. Непосредственнее и ощутимее всего действует звучание улицы, но и литературный язык тоже: прозы, еще приближеннее — стихов.
Лексикон Гандлевского — первого порядка, без поиска экзотики. Но выбор слов и словосочетаний таков, что ощущение новизны — непреходяще. Вот в этом стихотворении ощущение "настоящести", истины возникает в первую очередь от безукоризненного подбора глаголов действия-состояния: ага, соображаешь, всем этим и я занимался, и еще как. Еще — от искусно выстроенного косноязычия, простонародного лепета, интонации неуверенности, в которой только и выступает правда: "С какой — не растолкуют — стати, / И то сказать, с какой-такой..." Потому, наверное, мне мешают в этих стихах Кьеркегор и Бубер — нечего знакам культуры делать в путаной искренней исповеди. Но раз поэт поставил — значит, надо.
В конце концов, без таких знаков не был бы самим собой Гандлевский, который настаивает на том, что литература есть важнейший источник литературы. И тут, в "Когда я жил...", отзвук — ритм, слог — его любимого Ходасевича: "Когда б я долго жил на свете, / Должно быть, на исходе дней / Упали бы соблазнов сети / С несчастной совести моей". Слышен какой-то очень нынешний голос, да еще с употреблением сегодняшнего паразита "на самом деле", другого русского парижанина, Анатолия Штейгера (знает его стихи Гандлевский или то нередкая в поэзии заочная перекличка через расстояния и времена?): "И ты вдруг сядешь ночью на постели / И правду всю увидишь без прикрас / И жизнь — какой она, на самом деле..."