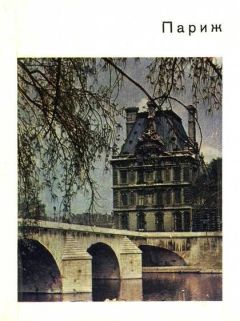Затем переписка становится желчной, и оба писателя тычут друг в друга своими болезнями, а затем и агониями:
Пруст Монтескью:
«За эти долгие недели, что я беспрерывно умирал, не от рака, как вы, похоже, непременно предположили… умирал от усталости, позвольте мне после стольких поклонов и расшаркиваний почтительно откланяться в последний раз. Запиской двадцатипятилетнего человека вы объявляете эту печальную весть вашему почтительному другу, которому перевалило за сто… Стало быть, вы и в самом деле считаете, что в моих восхищенных и признательных чувствах к вам наступило охлаждение?.. В противоположность тому, что вы велели передать мне, последним написал именно я, и как раз вы-то мне и не ответили…
Первым умер Монтескью, в Мантоне, 11 декабря 1921 года. Рядом с ним не было никого, кроме секретаря. Пруст герцогине де Клермон-Тонер: «Мадам, мне сказали, что вы оказались единственной из друзей бедняги Монтескью, кто был на его похоронах. Я говорю «бедняги Монтескью», хотя все убеждает меня в том, что он не умер, и что на этом погребении, состоявшемся на кладбище Карла V, в гробе, по счастью, никого не было. Только это удерживает меня от того, чтобы написать очерк, который я намеревался посвятить его памяти… Я был слишком болен, чтобы написать ему, как я его любил, и, если бы, против всякого ожидания, он и в самом деле умер, я бы никогда не простил себе, что не высказал ему это вовремя…»
Его отношения с госпожой Строс, самой перенесшей операцию и пораженной «хронической смертью», стали похожи на отношения постаревшего Шатобриана с госпожой Рекамье:
Госпожа Строс Марселю Прусту (1920):
«Мне бы хотелось поговорить с вами о многих противоречивых вещах. Во-первых, о моей грусти при известии о вашей болезни; потом, мне до того скучно быть мертвой, что это мешает жить; и, наконец, о счастье вновь обрести своих друзей в стороне Свана. Эта радость будет такой же пылкой, как радость живой женщины, а моя нежная дружба к вам — тоже не дружба умершей… Я себя чувствую совсем «тетушкой Леонией». Стало быть, вы можете понять меня и простить мои помарки…»
Госпожа Строс Прусту (1921):
«Я так сожалею, что дочитала свой прекрасный том, и очень хотела бы узнать продолжение. Вы меня оставили одну на Елисейских полях рядом с вашей больной бабушкой… и больше я ничего не знаю. Поскольку мы продолжаем быть «разделенными телесно», то, раз вы не выходите днем, пошлите ко мне прекрасную Селесту. Она мне расскажет, как вы себя чувствуете, и вам не придется тратить усилия на письмо…»
Хоть и мертвая, госпожа Строс клянется, получив «Содом и Гоморру», что не была шокирована сюжетом. И вот ее последнее письмо:
«13 мая 1922 года… Марсель, мой маленький Марсель, как бы мне хотелось видеть вас! Мне кажется, что мы можем столько друг другу сказать! Но это было бы одновременно слишком забавно, и слишком грустно, и я думаю, что это уже никогда не случится. Никогда, какое жестокое слово! Не могу свыкнуться с мыслью, что больше не увижу вас…»
Постепенно многие из его старых и самых нежных друзей, не теряя своей привязанности к нему, молча уходили в тень. Так было с Рейнальдо Аном, с Люсьеном Доде, Робером Дрейфусом. Им обидно было видеть, как новые знакомые, привлеченные славой или профессиональными связями, казалось, взяли верх над спутниками всей его жизни. По словам Люсьена Доде это была притча о винограднике: «Как! Последние трудились всего час, а платят им столько же?» Они бы предпочли, чтобы их Марсель вечно оставался гениальным любителем, безразличным к тому, что о нем говорят, к почестям, к тиражам, к рекламе.
Однако, как ни странно, он интересовался «этими пустяками», и занимался ими с въедливой и подозрительной рассудочностью, которую вносил во всё. Племянница и сестра Селесты по его распоряжению ходили к книгопродавцам, чтобы проверить, стоят ли «Германты» во всех витринах. Он чуть не каждый день писал Галимару письма, сетуя на слишком малое число изданий. Для «Свана» пренебрегли добавить к числу изданий НРФ тираж Грассе.
Пруст Гастону Галимару:
«Касательно «Девушек в цвету» я, похоже, копирую собственную пародию на Гонкуров, говоря, что моя книга на всех столах в Китае и Японии. И однако отчасти это верно. Для Франции же и сопредельных стран это верно не отчасти, а совершенно. Я не знаю банкира, который не нашел бы ее на столе своего кассира, так же как у меня нет такой знакомой, которая, отправившись в путешествие, не обнаружила бы ее у своих подруг, в Пиренеях или на Севере, в Нормандии или в Оверни. Непосредственный контакт с читателем, которого я не имел со «Сваном», происходит каждодневно; так же часто просят статей для газет. Это вовсе не прибавляет мне тщеславия, ибо я знаю, что порой случается мода и на самые плохие книги. Это не прибавляет мне тщеславия, но я надеялся, что это прибавит мне сколько-нибудь денег. Количество изданий — не единственный показатель популярности, но все же это показатель, подобно биржевым котировкам или градусам температуры больного. И что же? По мере того как «Девушки в цвету» продаются, число изданий уменьшается…»
Он сравнивает и жалуется:
«Открыв сегодня «Нувель ревю франсез», вижу на обложке: Перошон, «Нен» — семьдесят пятая тысяча экземпляров. Однако «Нен» появилась годом позже «Девушек в цвету». К тому же, сколь бы теплые чувства я ни питал к господину Перошону, «Нен» является тем редким случаем Гонкуровской премии, когда, справедливо или нет, объявляют «достойной» не самую блестящую книгу. Так что диспропорция количества изданий по сравнению с «Девушками» кажется мне огромной…»
Он увлеченно заказывал статьи о своем детище, а при необходимости и сам писал их, с гордостью приводя «словцо» Леметра: «Когда этот Пруст плох, он так же хорош, как Диккенс, а когда хорош, то гораздо лучше», и говорил, что готов платить за отклики в других газетах, которые воспроизвели бы самые дифирамбические из похвал. Ему хотелось даже более скандальной рекламы, он и сокрушался, что его книга не была объявлена, подобно сочинению Поля Морана, плакатом: «Не давайте читать юным девушкам». Не довольствуясь Гонкуровской премией, он «прощупывал» Академию на предмет Большой премии по литературе. Ему нравился ежедневный ворох хвалебных писем, который Альфонс Доде назвал некогда «маков цвет», имея в виду чересчур броскую окраску лепестков и их недолговечность. Ему нравилось, что наваленные на «шлюпке» тетради ценились теперь на вес золота в качестве драгоценных рукописей.