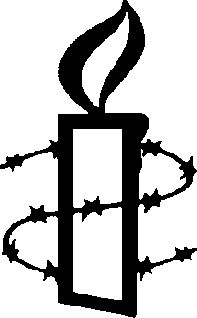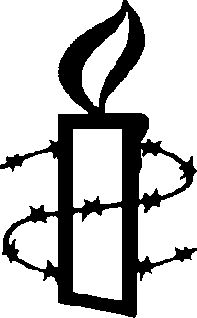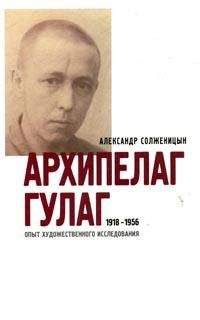Я видел, что этому человеку можно жаловаться, следует жаловаться, стоит жаловаться, и я раскрыл рот и вылил свою душу. Я описал ему свое состояние с такими подробностями, что и камень бы расстроился. Я видел, что сегодня меня еще не выбросят из больницы — сегодня, во всяком случае, нет.
Я ушел и прилег на койку. Я был очень далек от мысли, что в эту минуту решается моя судьба. Незаметно я впал в сон. Заснул я рабочим 3 категории («облегченный труд»), а проснулся инвалидом 2-й группы. Меня актировали. Невероятное, головокружительное известие порхало по всей палате, передавалось от койки к койке. Все с завистью смотрели на меня. Лекпом Карахан Шалахаев первый поздравил меня, но я не поверил, пока сам Максик не пришел, сел на край койки и сказал, потирая руки:
— Ну-с, товарищ Марголин, мы вас актировали. Кончены трудовые подвиги. Вы довольны?
Был ли я доволен? Я обезумел от счастья, я не знал, что со мной делается, это был мой самый светлый праздник в лагере. Актировка — больше, чем инвалидность 2-ой группы. Актировать заключенного — значит официально подтвердить, что он не только непригоден к физическому труду, но и не может восстановить своего здоровья в лагерных условиях. Эта формулировка: — «в лагерных условиях» очень важна. В нормальных условиях он еще может восстановить свою трудоспособность, но в лагере — Санчасть складывает оружие. В 1943 году на основании «актировки» освободили много инвалидов. Этот документ давал формальное основание для моего освобождения. Мое положение в лагере менялось радикально, и эта смена пришла неожиданно. Я был ошеломлен.
Еще несколько дней назад Моргунов гонял меня как собаку, и моя очевидная слабость только раздражала всех, окружавших меня. То, что я был доведен до инвалидного состояния, само по себе было недостаточно. Если бы не интервенция Максика, который стационировал меня и потом подсунул заезжему гостю — если бы не протекция и личное знакомство, я продолжал бы ходить на работу, как другие, которые не были в лучшем состоянии, чем я, и которых актировали за 2 недели до смерти.
В стационаре я помогал вести отчетность. Карахан повел меня в процедурную, усадил за столик, дал перо и чернила, и я переписал в 2 экземплярах 15 актов, 15 документов актировки, среди которых был и мой собственный. Забавно было то, что этот документ, который равнялся для меня спасению жизни в последнюю минуту — был мистификацией. 24 болезни выписали мне в этом документе, потому что, если бы просто написали правду, что спустя 2Уз года пребывания в лагере я больше не в состоянии стоять на ногах — этого было бы недостаточно.
Последующие дни я провел в радостном возбуждении, в праздничном тумане. Прежде всего было ясно, что на основании актировки оставят меня лежать в стационаре продолжительное время. Документы актировки были отправлены на утверждение в Ерцево. Там половина из них потерялась, в том числе и мой собственный. До конца года поэтому меня еще дважды вызывали на переосвидетельствование. Всякий раз спасал меня мой внешний вид — седая голова в 42 года, исключительная худоба, жалкое бессилие и измождение.
Власть нарядчика кончилась надо мною со дня актировки. С того времени я работал только добровольно и по своему желанию — чтобы не умереть с голоду на инвалидском пайке. Самочувствие мое поднялось. Лагерник, которого не имеют права выгнать каждое утро на работу по усмотрению администрации — продолжает быть з/к, но на половину он уже вне лагеря, — он уже не лагерник в специфическом каторжном смысле этого слова, означающем рабский труд. Он может выбрать, может бросить работу, которая ему слишком тяжела, и не работать совсем, если предпочитает голодную смерть.
В первые дни после актировки я, как счастливый ребенок, лежал улыбаясь всему свету и примиренный со всеми. Я не получил религиозного воспитания и до лагеря никогда не беспокоил Бога своими молитвами. В лагере, где моя судьба превратилась в игрушку стихий и случайности, я впервые ощутил потребность выразить словом упрямую веру в чудо спасения, в мировой Разум, незримо присутствующий за мировой бессмыслицей. Тогда я научился кончать свой день словами: «Боже, выведи меня из грязи и верни на Родину». Но только сейчас я почувствовал, что этот счастливый исход становится действительно возможным.
У меня была потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Я написал письмо в Палестину, письмо домой, жене, заадресовав его своим собственным именем: «Д-р Юлиус Марголин»… В ту минуту, когда я кончал его, вошел в палату уполномоченный и увидел издалека, что я что-то пишу. Это было вечером, тусклая электрическая лампочка горела против моей койки, и я не заметил недоброго гостя. Он подошел ко мне, отобрал письмо, произвел обыск в моей тумбочке и нашел неизменные «Вопросы Ленинизма» Сталина. Внутри лежала фотография сына — единственное, что у меня еще осталось от прошлой жизни. Он забрал и фотографию.
В другое время я бы очень огорчился. Но теперь ничто не могло меня омрачить и вывести из состояния блаженного счастья.
Слава Богу, я был инвалидом!
Выкосили полянку, на которой я лежал. Подняли в этап соседей, с которыми я спал. Они ушли в Удмуртию, в Ижевские лагеря. Надо было и мне пошевеливаться. Райское состояние неработающего инвалида кончалось.
Тому были две причины. Первая — экономическая. На 400 граммах хлеба прожить нельзя. Инвалид съедает 200 гр. хлеба утром и 200 гр. вечером. Ему дают их в два приема. Иначе он бы сразу проглотил свой кусок хлеба и на круглые сутки остался бы ни с чем. Остальное, что он получает к хлебу, стоит немного: талон первого и даже второго котла обменивается в лагере на 150 или 200 гр. хлеба. Неизбежно все мысли инвалида сосредоточиваются на том, как бы подработать. Заработать много он, правда, не может. Стахановского или ударного пайка не полагается ему ни в коем случае (если может перевыполнить норму, то какой же это инвалид?). На физической работе могут его — максимально — сравнить с выполняющими норму. Это — еще 200 гр. хлеба. В 1944 году разница составляла всего 150 грамм. Помимо хлеба, разница в питании между I и II котлом была незначительна. Жиры выдавались по 10 гр. растительного масла в кашу, а сахар на Круглице, по 20 грамм в день, получали только стационарные больные, и то не всегда.
Но не только погоня за хлебом заставила меня снова выйти на работу. Была другая серьезная причина. По мере того как на лагпункте собиралось большое число инвалидов, их переправляли в особые концентрационные пункты, чтоб не путались под ногами. Инвалидов из Сангородка отправляли в Островное или Медведевку. Там собирались человеческие отбросы лагеря, отработанный пар. — Для них был там особый режим и особая работа, о чем недобрая слава ходила в Круглице. Человек, который туда попадал, как в болото, уже не мог подняться. Там была концентрация ненужных и лишних элементов, которыми уже не интересовалось начальство. Над нами, инвалидами, всегда висела угроза: «Отправят в Островное, там пропадешь». Быть инвалидом среди здоровых на нормальном рабочем лагпункте — большое преимущество. Тут и пристроиться легче, в контору или в лагобслугу, — и кормят лучше. Там же, где все кругом тебя такие же инвалиды, как и ты, — невозможно выбиться из общей массы, и всем одна участь. Итак, я всеми силами держался за мой прекрасный Сангородок. Приблизительно раз в месяц производили чистку, собирали неработающих инвалидов и отправляли прочь. Чтоб не попасть в роковой список, надо было исполнять какую-нибудь полезную функцию, быть «работающим инвалидом» и вообще иметь репутацию человека, который без дела не сидит. И я снова взялся за «дело».