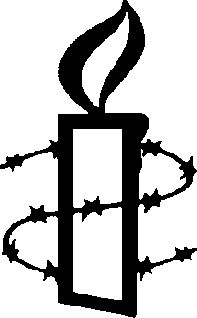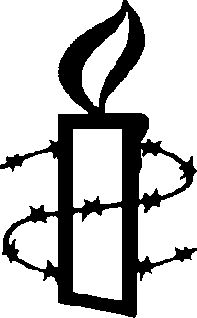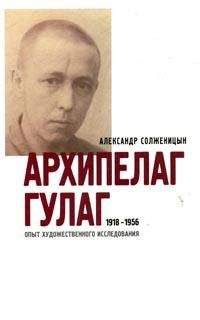Но не только погоня за хлебом заставила меня снова выйти на работу. Была другая серьезная причина. По мере того как на лагпункте собиралось большое число инвалидов, их переправляли в особые концентрационные пункты, чтоб не путались под ногами. Инвалидов из Сангородка отправляли в Островное или Медведевку. Там собирались человеческие отбросы лагеря, отработанный пар. — Для них был там особый режим и особая работа, о чем недобрая слава ходила в Круглице. Человек, который туда попадал, как в болото, уже не мог подняться. Там была концентрация ненужных и лишних элементов, которыми уже не интересовалось начальство. Над нами, инвалидами, всегда висела угроза: «Отправят в Островное, там пропадешь». Быть инвалидом среди здоровых на нормальном рабочем лагпункте — большое преимущество. Тут и пристроиться легче, в контору или в лагобслугу, — и кормят лучше. Там же, где все кругом тебя такие же инвалиды, как и ты, — невозможно выбиться из общей массы, и всем одна участь. Итак, я всеми силами держался за мой прекрасный Сангородок. Приблизительно раз в месяц производили чистку, собирали неработающих инвалидов и отправляли прочь. Чтоб не попасть в роковой список, надо было исполнять какую-нибудь полезную функцию, быть «работающим инвалидом» и вообще иметь репутацию человека, который без дела не сидит. И я снова взялся за «дело».
Пока не было холодов, ходили за вахту. Инвалидная бригада отправлялась куда-нибудь «на затычку», на подборку мусора, на очистку полей от камней и тому подобные работы. Состав ее был самый пестрый: старики, которые еще хорохорились и не сдавались, ветераны труда, у которых тряслись колени и впали щеки, чахоточные, не совсем еще созревшие для больницы, калеки, хромые, уроды со всех концов мира — югославы, корейцы, армяне и финны; — кто-то, знавший проф. Ланжевена в Париже, стоял рядом с колхозным пастухом. Каждый из нас срезал себе палку — и тяжело опирался при ходьбе. Я тоже выходил с палкой, становился в строй и ждал, пока проверяли. А проверяли нас поименно, чтобы не припутался случайно кто-нибудь здоровый.
Инвалидное шествие трогалось в путь. Четверки быстро расстраивались, растягивались нестройной толпой по пыльной или грязной дороге. Сбоку плелся стрелок, тоже инвалид, забракованный для фронта, или баба-солдат, в бушлате и фуражке с красной звездой, которая ружье держала как хворостину против гусей. — «Прибавь шагу!» — «Подтянись!» — «Прекратить разговоры!» — а когда мы уже очень выбивались из строя: «Приставь ногу!» — Тут передние останавливались и ждали, пока подойдут задние. Стрелок опять пересчитывал людей и переставлял задних вперед. Впереди бригады всегда шли самые слабые ходоки, а прочие топтались за ними и наступали на ноги.
Пройдя с полкилометра, бригада сама без спросу садилась отдыхать. Рассаживались на камушках вдоль дороги, откладывали посохи, а некоторые прямо валились на землю, на бок и навзничь. — «Отдыхай, слабкоманда!» — говорил стрелок и терпеливо закуривал в стороне. Нам по инструкции не полагалось подходить к стрелку ближе чем на 3–4 метра, но запрет часто нарушался. Бригадир, как представитель власти, часто садился рядом. В отношении стрелков к заключённым не было ни враждебности, ни особой начальственности. Было слишком очевидно, что мы, заключенные, сделаны из того же теста, не враги и не преступники, а та же серая рабочая скотинка, которой приказано властью жить в лагерях.
Бригадир не работал. По правилам только в больших бригадах, числом в 25 и 30 человек (кажется), бригадиры освобождаются от работы, а в меньших — обязаны работать наравне с другими. Но на деле бригадир никогда не работает: он только расставляет людей, учит, показывает и погоняет, а вечером составляет рабочие сведения, получает на бригаду хлеб и ходит по делам бригады в контору и ЧОС. Понятно, что в инвалидской бригаде работы у него не много.
Мы занимались плетением матов из тонких деревянных планок во дворе сельхоза. Этими матами потом покрывали стеклянные рамы парников.
Осенью посылали нас на уже убранные гектары картофельных полей — подобрать мелкую картошку, которая осталась незамеченной при уборке. Весь день мы копошились в бороздах и находили массу картошки. Есть ее нам не позволяли, и не было огня, чтобы спечь. Только стрелок весь день пек картошку в золе своего костра. Некоторые не выдерживали и подходили клянчить. Они клянчили лживыми, сладкими голосами, как маленькие дети, и стрелок иногда бросал им картофелину, со злостью, чтобы отвязались. Все мы ели картошку сырую, ели украдкой, чуть почистив рукавом. Я был в состоянии съесть 20 сырых картошек. Если бы позволили спечь, хватило бы половины. Но никто не имел права позволить нам этого. Каждая картошка принадлежала Государству.
С наступлением холодов я стал дневальным ЧОСа. Обязанностью моей было убирать две комнатки. В первой помещались «продстол» и «вещстол». Во второй — кабинетик начальницы ЧОСа, Гордеевой. Стол, большое деревянное кресло, портрет Сталина, шкаф с бумагами — составляли мебель кабинетика, а на столе стоял большой стеклянный графин — вещь в лагере необыкновенная и поражающая внимание. Каждое утро я наполнял графин свежей водой. За водой приходилось идти в другой конец лагеря, в кипятилку. Кипятильщик Арон Штернфельд, черноволосый украинский еврей, был моим приятелем. Я получал у него вне очереди ведро кипятку для ЧОСа. В первой комнатке за деревянным барьером сидели счетоводы. Главбух, лысый армянин, сыпал анекдотами и шутил с бабенками. В углу помещался вещстол. За ним сидел старик лет 60-ти, как будто приросший к табурету, непогрешимый канцелярист, идеальный счетовод. Третий, хлебодатчик, однорукий (другая рука у него высохла), с бритым и твердым лицом, широкими плечами, был полон иронической вежливости и непроницаемости. Все трое были сыты, веселы — балагурили. Можно было годы с ними жить и не узнать, кто они такие в глубине души. Это были советские чиновники в лагере, придурки. В течение дня я стоял при печке и ходил с поручениями. Нельзя сказать, что я бегал: ноги еле-еле волочились у меня. Счетоводы ходили в продкаптерку и приносили оттуда картошку. Они пекли ее в печке, и такт требовал, чтобы я этого не замечал. Бог видит, каких усилий стоило мне не показать им, как тянет меня за сердце дух печеной картошки, и не стянуть хотя бы одной картофелины. Они делились между собой и с полным бесстыдством съедали на моих глазах все до конца. Никто из них никогда не предложил мне ничего, и я думаю, им даже доставляло удовольствие присутствие у печки человека, который стискивал зубы и смотрел в сторону.
Вечером я заправлял лампы на случай порчи электричества (которая бывала каждый второй день), закрывал окна тяжелыми деревянными щитами. От 8 до 10 ЧОС заполнялся толпой работяг. Густая толпа стояла за барьером, а под дверью Гордеевой выстраивалась длинная очередь. Тут выписывались наряды в вещкаптерку на рукавицы, обувь, одеяла и одежду. Кроме работы дневального, я составлял всякие акты, отчеты, записывал и отправлял почту с людьми, которые отправлялись от нас в Ерцево и соседние лагпункты. На этой работе мне полагался I котел и 500 гр. хлеба — норма для дневальных. Разница с инвалидским пайком составляла всего 100 гр. хлеба. Так как дневальные не могут жить на таком пайке, то их неофициально «подкармливают» на кухне. Меня тоже «подкармливали». Это была унизительная и отвратительная процедура. В 8 часов, после раздачи завтрака, я подходил к закрытому окошку кухни и стучал. Друзей у меня на кухне не было, и они не торопились открывать мне окошко. Часто, простояв полчаса, я уходил ни с чем. — «Нету ничего!» — Этот котелок «баланды», жалкого лагерного супа, составлял всю мою зарплату за работу в ЧОСе (кроме 100 лишних гр. хлеба), — но мне всегда давали его как бы из милости, с досадой и злостью.