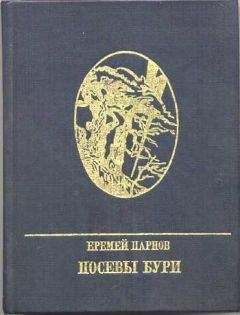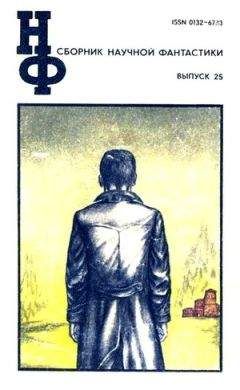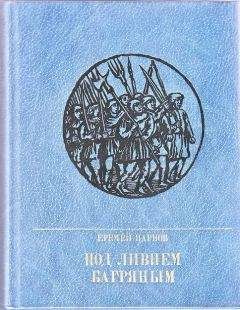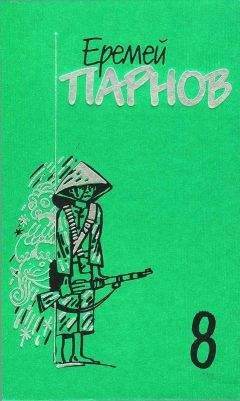Зорко вглядываясь в ошеломленного губернатора, чье лицо смутно голубело вблизи, Волков подумал, что Звегинцев не более чем марионетка, которую «черный барон», этот непревзойденный фокусник, в любую минуту смахнет в свой сундук и захлопнет крышкой.
— Мне пришла одна мысль, милый барон. — Он подошел к Мейендорфу. — Вы знакомы с московским губернатором?
— Не имею чести, но мой ближайший друг, барон Медем, московский градоначальник и, разумеется, хорошо знает господина Дубасова.
— Отменно. Необходимо срочно посоветоваться с Федором Васильевичем. Попробуйте сделать это через вашего приятеля. Я тоже попытаюсь предпринять кое-какие шаги. Мне, видите ли, довелось служить под началом Зубатова, и в Москве у меня крепкие связи.
— Все это очень хорошо, Юний Сергеевич, но я не понимаю, зачем вам нужна древняя столица, что вы там забыли?
— Просто мелькнула идейка, барон. Вспомните историю с Горьким. То, что тебе трудно сделать самому, очень часто, притом без всякого вреда для себя, берется уладить твой сосед. Улавливаете? Мы не раз деликатно приходили на помощь столицам, пусть теперь и они на нас поработают. Долг ведь платежом красен!
— Я все же не пойму, почему вам понадобилась именно Москва?
— Ах, да! — с притворной забывчивостью Юний Сергеевич ударил себя по лбу. — Совсем из виду выпустил. — Он увлек Мейендорфа в сторонку. — Суть в том, что Райнис предположительно выедет в Москву, на съезд городов. А Плиекшан в первопрестольной, сами понимаете, — это не Райнис в Риге. Ищи-свищи!
— Вы неподражаемы, Волков, — Мейендорф фамильярно похлопал Юния Сергеевича по плечу. — И, кажется, незаменимы. Если не споткнетесь, будете творить большие дела!
— Честно говоря, барон, я думал, что вы потеряли интерес к нашему жрецу Аполлона. — Юний Сергеевич демонстративно отодвинулся, давая понять, что не приемлет амикошонства.
— Потерял интерес?! — возмущенно воскликнул Мейендорф. — Да он не давал мне минуты покоя даже в Петерсбурхе. Послушайте, господа, — воззвал он к обществу, — в латышской газете «Петерсбургас авизес» с мая начали публиковаться откровенно революционные стихи этого экспроприатора и поджигателя! Причем в виде приложения, на отдельных листах, которые легко сброшюровать в книгу. Гонишь в дверь, понимаете ли, лезет в окно. И в Петерсбурхе меня нашел.
— Вы разве читаете по-латышски, барон? — спросил генерал.
— Я — нет, — в сердцах огрызнулся Мейендорф. — Но кому надо, те читают. Мне указал на эту вызывающую акцию наш земляк, барон фон Раух. Как вы знаете, он генерал-квартирмейстер и очень много помог в моих хлопотах. А тут он мне попенял. Лишь ценой невероятных усилий мне удалось приостановить публикацию скандальных стихов. На редактора «Петерсбургас авизес» наложен штраф.
— Как назывались стихи, барон? — полюбопытствовал Волков.
— «Веяния эпохи» или что-то в этом роде.
— Тогда это они. — Юний Сергеевич удовлетворенно кивнул. — Из его новой книги.
— Вы, я вижу, знаток изящной словесности, — пошутил Звегинцев.
— Что вы, ваше превосходительство! — засмеялся Волков. — Всего лишь по долгу службы. Вот Михаил Алексеевич были знаток-с, не столько они, вернее, сколько некий господин Сторожев.
— Что это за люди там? — Генерал Папен кивнул на ограду, вдоль которой проплыли смутные тени. — По-моему, они с ружьями!
— Ах, это? — пренебрежительно отмахнулся губернатор. — Патруль местной самообороны.
— Что?! — воскликнул барон. — Как вы сказали?
— Такова, господа, сегодняшняя действительность. Все обороняются от всех: помещики от крестьян, евреи от погромщиков, заводчики от пролетариев. Мы тут к этому привыкли. В Петербурге тоже так, — успокоил губернатор. — Вы просто не обратили внимания, барон.
— И вы спокойно говорите об этом?
— Что же поделаешь?
— Но ведь это вооруженная чернь!
— Все, повторяю, все нынче вооружаются, — с ноткой нетерпения произнес Звегинцев. — Боевики формируют военизированные дружины. Дворяне содержат целую армию для самоохраны. Стоит ли удивляться тому, что теперь за дело принялся обыватель?
— Но ведь это означает гражданскую войну!
— Я бы назвал это поляризацией общества, барон.
— Все до поры до времени, господа, — попытался внести успокоение полковник. — Есть ведь и еще одна вооруженная сила. Главная! Которая от бога… Она еще скажет свое решающее слово. Дом Романовых вот уже почти три столетия твердой рукой держит бразды. Не погибнем и в этот трудный час…
Сладко спалось на ложе из немятого льна под августовскими звездами: из лесу плач козодоя доносился, сверчки грустили в пыльном, выжженном бурьяне, болотное марево, пропахшее коробочками дурмана, блаженным холодком оседало в груди. После кружки парного молока и краюхи с гречишным медом такое довольство разливалось по телу, что пальцем пошевелить не хотелось. Век бы лежать на этом холме, посреди раздольного мокрого луга, над которым только звездная пыль в несказанной высоте. Пусть ничто не меняется на заколдованной земле. Не надо пыльного дня с его тревогами и суматохой, зябкого утра с его запоздалой трезвостью тоже не надо. Сонный яд разнотравья медом склеивает глаза.
Но правду говорят, что в последнюю четверть луны вели-мертвец шатается по темным дубравам. Не оттого ли не спится людям, что до Лестенского леса рукой подать? Минутное забытье, захватывающий дыхание провал в бездонную прорубь и сразу пугающее пробуждение, когда сердце колотится и нельзя сразу понять, где ты и что с тобой. Не иначе вели за ногу дернул, уволочь хотел. Только зачем ему такая добыча? Даже для одинокого волка не находка бездомный бродяга, пропахший потом, сосновым лапником и дымом лесных ночевок. Ворон ворону глаз не выклюет. Тому, кто, подобно вели, не спит по ночам и, как волк, уходит от облавы в самую чащу, никто не страшен. Напротив, лесной брат радуется встрече с диким зверем. Там, где олень оставил помет и волчья шерсть приклеилась к смоляному стволу, он в безопасности. Ни казак, который без коня никуда, ни жандарм, что ночью куста боится, не сунутся в такое место. Это на хуторе приходится прислушиваться к каждому шороху, на шумных улицах городов ловить на себе подозрительный взгляд.
— Скоро вставать? — первым не выдержал Люцифер и заворчал, сворачиваясь в клубок. — Не успеешь глаза закрыть, как тебя уже тормошить начинают.
— Никто тебя не трогает, — сонно пробормотал Учитель. — Спи.
Но уснуть уже никто не мог. Да и сна-то осталось всего ничего. Разве что так — поваляться немного в тепле и неге.