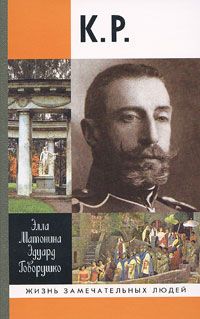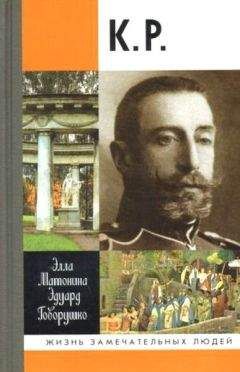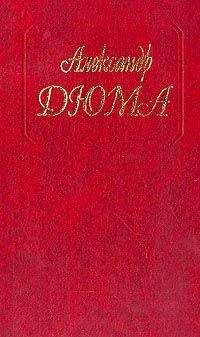Пушкин интересовался Западом, но не желал, чтобы Россия вслепую копировала Европу. У Великого князя был иной угол зрения на русско-европейские отношения: он ценил всё европейское в соответствии со степенью пригодности европейского опыта в русской жизни. И здесь всё шло впрок: изучение истории, культуры, обычаев, летописей, человеческих судеб и общечеловеческих страстей в разных национально-исторических проявлениях.
Константин Константинович, путешествуя по Европе, был достаточно критичен, но не упускал возможности и случая «взять» всё, что полезно России и соответствует ее духу.
«Живя за границей вот уже третью неделю, – писал К. Р. 12 декабря 1899 года Леониду Николаевичу Майкову, крупному ученому-филологу, вице-президенту Академии наук, своему заместителю и другу, – я успеваю читать; но на деле: жизнь при маленьком немецком дворе меня очень тяготит своей мелочностью и отсутствием всего, возвышающего ум и сердце; художественных или вообще высшего строя стремлений никаких, а одни только пошловатые заботы повседневной серенькой жизни. В Веймаре, по праву носящем название новейших Афин, я проведу всю первую неделю поста и рассчитываю там встретить интересных людей… Будь моя воля, я полетел бы в Россию».
И тут же спрашивал об устройстве дел академической типографии, о постройке зоологического музея, радовался успешным делам публичной библиотеки, которой занимался академик А. Ф. Бычков, одобрял поездки академика А. О. Ковалевского, профессора зоологии Санкт-Петербургского университета и ориенталиста, академика В. В. Радлова – в Париж на юбилей Французского института; [41] а К. Г. Залемана, академика-востоковеда, – на юбилей Германского Восточного общества, соглашался с тем, что бедному, заморенному на постройке зоологического музея Ф. Д. Плеске требуется лечение в Вене. Он беспокоится о финансах Академии. И когда Майков писал ему из Петербурга: «Расходуем мы деньги осторожно, но все-таки едва ли можно предвидеть остатки к концу года», Константин Константинович не без юмора спрашивал сестру Веру Константиновну, жену герцога Вюртембергского, живущую в Штутгарте, не научилась ли она, живя с хорошо организованными немцами, каким-то секретам по экономии денег.
Вера Константиновна засмеялась:
– Езжай в Париж: там процветают скупость и экономия. Поучишься.
Он поедет. Экономии не научится, но понаблюдает, учтет и сравнит все увиденное и услышанное на обычном четверговом заседании Французской Академии с делами Российской Академии.
Попасть на это обычное заседание было очень трудно – посторонним вход запрещался категорически. Помогли нарушить правило министр иностранных дел Франции и титул русского Великого князя. Встречал Его Императорское Высочество, президента Российской Академии наук четвертый сын короля Луи Филиппа Генрих Омальский. Заседали математик Бертран, философ Жюль Симон, историк Гастон Буасье, литературный критик, изучавший творчество Толстого, Тургенева, Достоевского, виконт Вогюэ, писатель Греар, поэт Франсуа Коппе.
«Зал заседаний несколько меньше нашей малой конференц-залы и украшен бюстами известнейших из умерших академиков, – писал Константин Константинович Майкову. – Герцог, заняв место на кафедре, приветствуя нас, напомнил, что двери Академии открылись в 1782 году для Графа и Графини Северных (под такими псевдонимами путешествовали по Европе Великий князь Павел Петрович, будущий Павел I с супругой. – Э. М., Э. Г.). Затем Герцог предложил читать Сюлли-Прюдому стихотворение, посвященное столетию Institut de France. Кстати, не следует ли нашей Академии поздравить в этот день Институт?… Я, находясь за границей, могу поздравить только от себя, а не от имени Академии… В заключение Caston Boissier читал корректуру нового издания академического словаря… Я находил много общего с нашими заседаниями: та же непринужденность, простота, иногда и посторонние разговоры, и забавные замечания. Меня так и подмывало указать им на систему нашего А. А. Шахматова, но, конечно, я удержался…» (6 октября, 1895).
Константин, что скрывать, радовался русско-европейской похожести, но еще больше – русскому интеллектуальному и духовному верховенству. «Ну, это я нескромно воспарил», – подумал он и попросил у немецкого герцога Саксонского уставы Гётевского и Шекспировского обществ. Да еще в придачу годовые отчеты этих обществ. Пора, пора создать, учредить подобное общество в России имени великого Пушкина!
– Учтем чужой опыт, сведущие люди скажут нам, что можно изменить в этих уставах, если они у нас вообще применимы. В конце концов, изобретем что-то новое – головы в Академии есть, и писатели великие есть! – говорил он Майкову по возвращении. – Кстати, многие из последних, ушедших из жизни, ждут доброй памяти от нас, потомков. В Орле надо поставить памятник Тургеневу. Ко мне, как к главе Комитета по устройству монумента, приезжал скульптор, Петр Николаевич Тургенев. Он не родственник писателя, а сын декабриста Николая Ивановича Тургенева. Живет в Париже, богат, знал хорошо романиста. Говорят, талантлив.
– Но едва ли заказ может быть сделан без честного конкурса, – усомнился Майков.
В этом случае они с Майковым были единогласны. Труднее шло дело с изданием сборника в память Белинского, чтобы через распродажу книги создать фонд для сооружения в Пензе памятника великому русскому критику. «Мысль об издании сборника в память Белинского, – писал Майков Великому князю, – не может, мне кажется, в нынешнее время показаться опасною и неблагонамеренною никому». – «И все же, – ответил ему Константин Константинович, – придется обратиться к губернатору и министру внутренних дел… Я это сделаю сам».
Великий князь помнил свой визит во Французскую академию: там такой бюрократической возни не наблюдалось. Выпустить вполне благопристойную книгу, поставить памятник… Что ж особенного в этом? Президент вздохнул, достал из стола бумаги, для него особенно дорогие, и вспомнил, как он их заполучил. Принц Виктор Неаполитанский рассказал, что в Королевском неаполитанском архиве лежат русские документы времен Петра I. Он тут же попросил разрешения их увидеть.
– Доступ в архив иностранцам запрещен, – ответил принц.
– Но копии можно снять?
– Выдача копий тоже запрещена.
– Кто может сделать исключение для Российской академии наук?
– Только отец. Я испрошу у него разрешение лично для Вашего Императорского Высочества.
Разрешение было получено. Копии сняты. Документы оказались на латинском, итальянском, французском, немецком языках. Среди бумаг – реляции о сражениях под Полтавой и Переволочной…
И вот они в Петербурге, у него на столе – прелюбопытные бумаги! «Пожалуй, профессору русской истории Санкт-Петербургского университета и Историко-филологического института Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому предстоит нам открыть что-то новенькое…» – радовался президент.