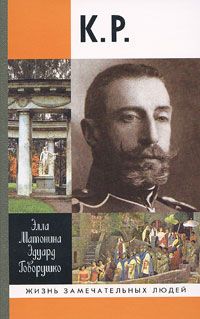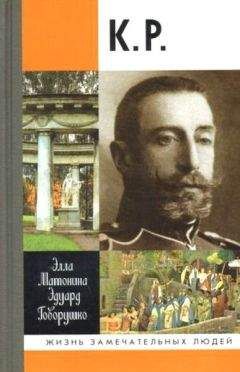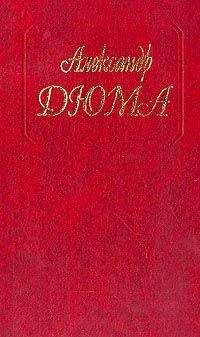Трепетный факел, с вечерним мерцаньем
Сна непробудного чуя истому,
Немощен силой, но горд упованьем
Вестнику света сдаю молодому.
И обратил эти строки в пожелание: чтобы у всякого поэта «вечерние огни» и «вечернее мерцанье» были теплыми и яркими, как у Фета.
Трудно сказать, есть ли еще в нашей литературе столь восхищенное объяснение в любви одного поэта другому, подобное объяснению К. Р. – поэту Фету. «Я с жадностью, как пчела в цветнике, впиваюсь в Ваши душистые стихи, из которых многие были для меня хорошо знакомыми, любимыми цветами. Сколько Вы мне доставили светлых мгновений и чистых наслаждений! Я глубоко умилялся душою и чуть не со слезами испытывал тот же восторг, как когда любуешься картиной или ваянием великого художника. Вы, конечно, не раз переживали то возвышенное, сладостное ощущение, когда при виде совершенного произведения искусства волоса становятся дыбом, слезы готовы брызнуть из глаз и дрожь пробирает; это было со мною при чтении Вашего сборника… Многие стихи читал я в полку на одном из наших „Досугов“».
Фет сожалел, что не может чаще видеть молодого августейшего поэта, чтобы их отношения не ограничивались формальными поклонами, высказываниями лишь эстетических воззрений, а были полезны К. Р. накопленным жизненным опытом старого человека. И гордился тем, что, раскрывая свои «дряхлеющие крылья» навстречу «возрастающему» поэту, совершенно свободен в этих отношениях и может говорить о стихах Его Императорского Высочества, не стесняясь его высокого положения.
В своей критике стихов К. Р. Фет был упрям, настойчив, откровенен и жесток. Требовал убирать целые строфы, не стеснялся делать замечания по поводу неправильных ударений. О некоторых стихотворениях безапелляционно говорил: «Этот род стихов не может упрочить поэтического кредита». Ловил на подражаниях. Прощал лишь подражания Пушкину – «… он всем открыт, как всем скульпторам открыты двери Ватикана». Не терпел неряшливости в языке: «… Будь этот куплет и безупречен без „тогда“ и без „туда“, без „усилья“ в ответ на „крылья“, то и тогда его стоит уничтожить». К сонетам, которые так любил Константин, придирался с особенной язвительностью своего характера: «Сонет по простоте языка и тону вполне законен, но и пушистоприятен, как бобровая муфта. Частое употребление „там“ приводит на мысль о затычке, „струйки“ – не пенятся, ибо не так они сильны. Человеку, истомленному и духотою озабоченному, не до „порывов злобы гневной“: он рад прохладному местечку». В другом случае, наткнувшись на «запевших соловьев», советует брать пример с него: «… давным-давно я внутренне покаялся, и, как ни соблазнителен бывает для человека голос соловья, воспевающего весну, я в последнее время употреблял все усилия обегать эту птицу в стихах из страха впасть в рутину». Он предлагал Константину вычеркнуть «соловьев» и назвать их «песнопевцами». К. Р. обиделся. Возможно, тихо назвал Фета «старой брюзгой», как тот сам себя называл. И воспротивился «песнопевцам».
А Фета явно раздражали в поэзии его подопечного некая вялость, отсутствие энергии, движения. И он, нисколько не думая о самолюбии проходящего у него школу поэта, пишет ему: «Стихи Вашего Высочества производят на меня впечатление, какое получает отставной моряк, сидящий на прибрежном камне, при виде веселых и могучих всплесков вечно юного моря». Константин ломал голову, кто этот моряк – он сам, не умеющий бороться с этими волнами, или это – Фет, старый, усталый, смотрит на могучие молодые волны, то есть на него – К. Р.
Почти в каждом письме Константину он высказывал свой взгляд на творческий труд художника.
Он признавал сочинения, которые вызваны той духовной волной, которая томит поэта, пока не выкинет из его груди предмета томления в художественной форме.
Советовал всем, кто отрицает возможность чистой поэзии, возражать так, как рекомендовал Лев Толстой: «Они говорят – нельзя, а Вы напишите прекрасное стихотворение».
Когда хвалил за правдивость, простоту и безукоризненность формы стихотворение К. Р. «Письмо к дежурному по полку», напоминал, что надо учиться у Пушкина, который, касаясь самых будничных предметов, превращал их в нетленное золото.
Имел свое суждение о правде в искусстве. Считал, что правда в искусстве всегда заключается в тоне, а не в подробностях. * * *
Иногда они спорили. Константин почтительно, вежливо. Старый поэт, чувствуя дистанцию между собой и Великим князем («В России существует две вполне ярко обозначенные сферы: Августейшая Семья и остальной народ, а над всеми – Царь», – писал Фет), все же иногда «терял тон» – раздражался: старость и болезни были тому причиной. Но и спорить им было интересно.
Быть хорошим – это личный дар Провидения, и нельзя дурному стать хорошим, убежден был Фет. Константин же считал, что человек обучаем до гробовой доски и потому исправим. Спорили о творчестве воронежского поэта Ивана Никитина. Константин, улавливая в стихах Никитина близкие своему сердцу мотивы сочувствия и утешения, говорил:
– Как самобытно, как искренне!
– Как похоже на Кольцова, Некрасова! Сколок с них и даже с меня. Не самобытность, а только зуд стихотворной краснухи, – возражал Фет.
Его раздражала «болезненность» современной поэзии. «Словно лазарет, пропитанный животными испарениями, микстурами и пластырями», – ворчал он. И хотя хвалил за «живительную свежесть» очередную порцию стихов К. Р., но ясно и прямо говорил ему, что надо следовать за чистой, безболезненной и блестящей сферой Баратынского и Пушкина.
В это время Фет писал свою биографию и искал объяснение своим недостаткам как поэта. С Константином он был откровенен: «… Совершенно явно, что в болезненности современной лирики виноваты Некрасов и я, Фет. Первый выучил всех проклинать, второй – грустить… Если тесная и грязная стезя, по которой пришлось пробираться Некрасову, может, независимо от прирожденного характера, помочь объяснить его озлобление, то постоянно гнетущие условия жизни в течение пятидесяти лет могут отчасти объяснить меланхолическое настроение Фета… Но там, где заговорил настоящий поэт, к счастью, совершенно свободный от пригнетающих условий, было бы странно ожидать болезненных звуков».
И Фет, не стесняясь, сказал Константину, что он, К. Р., по воле судьбы, счастливой судьбы, может свободно отдаться своему вдохновению – где «здравствует освежительная Кастальская струя!».
– Я прочитал ваше переложение «Страстного стиха». Однажды, проникнувшись подобно вам значением молитвы Господней, я переложил ее стихами и спросил мнения моего критика Владимира Соловьева, – говорил Фет. – Он ответил, что не сочувствует никаким стихотворным переделкам молитв, и даже знаменитому переложению Пушкина – «Отцы пустынники»… Я раз и навсегда с Соловьевым согласился. Когда-то и Лев Толстой выразил порицание моим стихам, заимствованным из иной области искусства, чем я иногда погрешаю. Толстой называл это «огонь от чужого огня», а задача художника – зажечь свой. И потом, заметьте, на нас более действует известная молитва. Знакомые слова ее напоминают знакомую лестницу, на которой стоит только изменить ступеньку, чтобы она уже не вознесла нас с обычной легкостью.