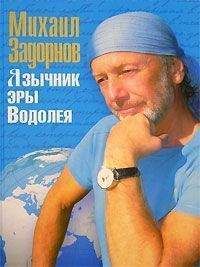Стихотворение, сказал Павел Косенко, написано Александром Ароновым... Не знаю, что это за поэт, что написано им еще, но все показалось мне важным, не случайным: и то, что Александр Аронов, живущий в Москве (судя по аннотации в книжке, попавшейся Павлу в руки), и мы с Павлом, живущие в Алма-Ате, и мудрый Гиллель, живший в Палестине две тысячи сто лет назад, — что все мы думали и думаем об одном: "Он же, увидя череп, плывущий по реке..." — во всем этом, будь я человеком верующим, почудилось мне бы некое знамение...
13
Так что же — все простить, все забыть?.. И кинуться к Шафаревичу или Кожинову с объяснениями в любви, набиваться им в братья?.. Во-первых, сдается мне, они сами не очень-то этого хотели бы, а во-вторых, честно говоря, мне и самому этого как-то не хочется. Простить, забыть — такое не делается по приказу извне или даже изнутри. Но не сводить старые счеты в новых обстоятельствах, отказаться от мести за старое — это мы можем. И можем постараться хотя бы понять друг друга... Иногда для этого требуется только время и отсутствие новых причин для ожесточения.
Помню 1966 год, ресторан в Чимкенте, куда я, командированный, заглянул пообедать, и белобрысого, в рыжих конопушках, разбрызганных по лицу, бледнокожего, голубоглазого, прямо-таки классического немца примерно моих, то есть тридцати с чем-то лет. Ни словом с ним не обменявшись, ровно ничего не зная о нем — как я его ненавидел! И при случае не считал бы нужным скрывать свою ненависть! Наоборот, она была для меня священной, я где-то в душе гордился тем, что ее испытываю, она как бы связывала меня с множеством людей, объединяла с ними, в том числе — и с теми, кто был мне всех дороже! Она возвышала меня, эта ненависть, и чем сильнее была она, тем большее удовлетворение, тем более сладкую радость я испытывал!
И он, этот немец, сидевший со своими коллегами за одним из столиков, предназначенных, как мне объяснили мои спутники, для феэргешников, которые приехали строить в Чимкенте фосфорный завод, эту мою ненависть превосходно чувствовал. Я уперся в него и не сводил взгляда — с его белобрысого, гладко зачесанного набок чубчика, с широко распахнутого ворота нейлоновой, модной тогда рубашки, с его прямо, не мигая, устремленных на меня глаз. Как спичка о спичку, зажегся этот вначале безразлично скользивший по залу взгляд — зажегся, вспыхнул, встретясь с моим...
Феэргешные столики, накрытые белыми, накрахмаленными скатерками, располагались на небольшом возвышении, вроде ресторанно-эстрадного помоста, и молоденькие, улыбчивые официантки в кружевных наколках обслуживали их необычайно резво — в сравнении с прочими столами, вроде нашего, в пятнах, с налипшими на скатерть хлебными крошками... За что я ненавидел этого парня, сидевшего метрах в пяти-шести от меня? Завидовал чистой скатерти на его столе? Расторопным официанткам? Запотевшим бутылкам "жигулевского", про которое нам было сказано: "Не подвозили..."? До коих пор, говорили мы, наши институты будут готовить специалистов, которые не могут сами построить такой вот завод, и сами — его спроектировать? Почему для этого надо приглашать немцев? Какого дьявола?.. И какого дьявола при этом трепаться о патриотизме?.." (Тогда только еще начинали собирать старые иконы и прялки по северным деревням). И тут местный, чимкентский журналист как бы по секрету сообщил нам, что феэргешным инженерам запрещено выезжать из Чимкента — будто бы из соображений государственной тайны, а на самом деле потому, что вокруг Чимкента, по аулам, — глинобитные мазанки, развалюхи, для скота не хватает ни корма, ни воды, всюду пыль, грязь, бездорожье, нигде ни деревца, во дворах — кучи кизяка... Но феэргешники ухитрились-таки отснять кое-что на кинопленку и увезти к себе в фатерлянд, а там крутили такое вот кино и потешались...
И все же — нет, не это само по себе разожгло меня: скатерти?.. Да бог с ними, со скатерками, гости — в конце-то концов... И не кино, распотешившее какое-нибудь франкфуртское или гамбургское семейство, хотя это, в общем-то, отдает свинством... Но немцев можно понять: после ихних кафелей на кухнях и в клозетах, и ванн, и электропечей, и розариев под окном... Это не они, это мы — свиньи, если у нас, в стране победившего-распобедившего социализма, в таких условиях живут люди... Мы — не они...
Но здесь, помню, что-то произошло — мелкое, но обидное, зацепившее и меня, и моих спутников. Белобрысый, заметили мы, сказал что-то резкое девчонке-официантке, она покраснела, смутилась, а он вдобавок скривил свой тонкогубый, капризный рот и бросил ей что-то презрительным, высокомерным тоном... Не знаю, отчего всегда больше всего задевает вот это. Может быть, каждая женщина чем-то напоминает каждому из нас мать, или — не то что напоминает, а вдруг тронет, шевельнет воспоминание о ней, хранящееся где-то в подкорке... Впрочем, я подумал в тот миг не о матери, а об отце. И даже не о своем отце, а о его, белобрысого, отце. Я подумал, как он в своей грязно-болотной форме, в рогатой каске, с закатанными по локоть рукавами, белобрысый, голубоглазый, выпустил веером ароматную очередь и изрешетил моего отца. И если его, сукиного сына, не пристрелили там же, на Перекопе, осенью сорок первого, то, возможно, потом он дошел до Сталинграда или Курска, или до Ростова — мало ли до чего он мог дойти! И теперь его сын — здесь, в Чимкенте, строит "этим русским" (для него все мы — русские!) завод, комбинат, который им, "этим варварам", и во сне не снился!..
И вот здесь все стянулось в один узел. Я уже не своего сверстника видел перед собой, а того — сверстника моего отца и его убийцу. И моей ненависти хватило бы, чтобы подойти к феэргешному столику — и убить. И не испытать при этом ни малейшего сомнения в своем праве на это. Праве на месть.
Священную месть. Ибо что может быть священнее, чем — месть за убитого отца?..
Не знаю, на самом деле смог бы я убить его, сидевшего передо мной?.. В своем воображении я с наслаждением его убил, исполнил свой долг.
С тех пор прошло много лет. Может быть, в этом причина, что моя кровь поостыла. А может — и в том, что за это время многое стало мне яснее. И то, что там, в Германии, множество людей творили зло в убеждении, что творят благо. Разве не так было у нас?.. И разве мало людей, которые творили зло не по убеждению, а не имея сил противиться этому? Справедливо ли воздавать им той же мерой, что и тем, кто толкал их на зло, на кровь, на убийство, лишал воли, веры в собственный разум, гипнотизировал словами: "нация", "народ", "Родина", освящая ими любую ложь, любое злодейство?.. Нет, никогда не поставлю я рядом своего отца, майора медицинской службы, ведавшего военно-полевым госпиталем, и его убийцу: ведь не он, мой отец, пришел на Рейн - это к нему пришли, и не он убил — его убили... Но могу ли я судить немца - за то лишь, что он немец? Сына — за то, в чем виновен отец? И — что знаю я об отце того самого белобрысого парня, который передо мной? Может, и не убийца он вовсе? Может, ненавидел он Гитлера так же, как мой отец ненавидел и презирал Сталина (ненавидел, поскольку брат его, Илья, в 1937-м получил десять лет "без права переписки", а сестра Вера — пять лет лагерей, а муж ее — расстрел, и отец, было время, со дня на день ожидал, что явятся и за ним... А презирал — как может и обязан, сказал бы я, каждый интеллигент презирать хама, велик он или мал...). Единственное, что знаю я о нем (да и то — приблизительно: были в германском воинстве и румыны, и венгры, и итальянцы...), это что он был немец. И что же, что следует отсюда: хорош он был или плох, добр или зол и т.д.?.. Что?.. Да ровно ничего. А этот, в ресторане?.. О нем-то что мне известно?.. Да, мне представилось — улыбнулся он как-то не так... А еще? Еще мне известно, что пришел он к нам не с автоматом, а с циркулем. И за это его ненавидеть?..