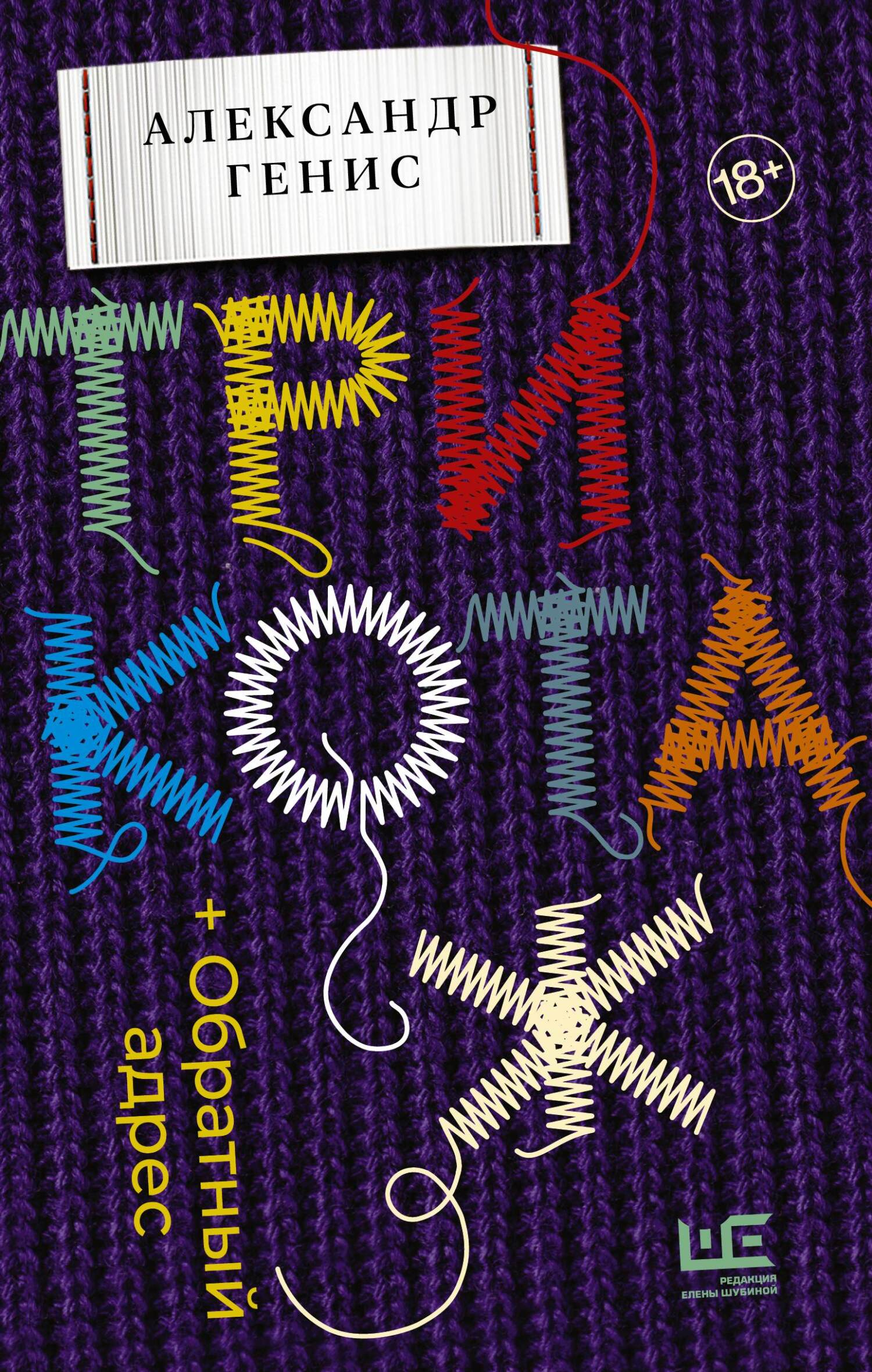всё потому, что в Америке у меня в голове поселился любознательный карлик. В клетчатых штанах и бейсболке, он был одет, как мой отец, который, чтобы не выделяться, наряжался словно янки из провинциальной оперетты. Карлик не давал мне покоя, желая знать, как выразить на английском всё, что я говорю и думаю.
– Что значит, – интересовался он, – когда русские на вопрос “кофе будешь?”, отвечают “да нет, пожалуй”?
– Проще не бывает, – объяснял я, – это значит, что в принципе я люблю кофе и не прочь выпить чашечку, но не сейчас, а, впрочем, пожалуй, выпью. Или нет.
Общаясь с одним карликом, я не заметил, как в голове завелся другой, который тоже хотел всё знать, но уже по-русски. (“Лечиться надо”, – заметила жена, дочитав до этого места.) В кепке и тапках, он постоянно проверял меня на вшивость, заставляя переводить с виду простое, а на деле – невыразимое.
Взять, скажем, ученую монографию Mind of its own, посвященную культурной истории пениса. Автор назвал книгу цитатой из Леонардо да Винчи, который, как все, был увлечен секретами этого органа.
“Когда он спит, – писал гений, – я не сплю, когда я сплю, он не спит”.
Переводя четыре простых английских слова, я страдал целый день, пока не нашел три русских, еще более простых: “Себе на уме”.
Чтобы отдохнуть от интеллектуального штурма, я включил самый смешной сериал всех времен и одного – английского – народа: Fawlty Towers. Владелец отеля, долговязый грубиян Фолти, которого играет великолепный Джон Клиз, довел строптивого постояльца до инфаркта. Чтобы избежать скандала, труп пришлось спрятать в корзину с грязным бельем. И тут за гостем пришли родственники.
– Где он? – спрашивают они хозяина.
– Тут, – говорит Фолти, показывая на корзину.
– Что он там делает? – с ужасом восклицают близкие покойника.
– Not much, – честно отвечает хозяин, вкладывая в эти слова всю могучую недосказанность англо- саксонской культуры и ее языка.
Как же перевести эту короткую реплику? “Ничего” – верно, но не смешно. “Не много” – и не верно, и не смешно. Средний вариант – “Ничего особенного” – втягивает в метафизические спекуляции на тему некротических явлений: получается, что покойник все же чем-то занят.
Потерпев судьбоносное фиаско, я понял, что этот минутный эпизод невозможно перевести, не поменяв регистра остроты, смысла мизансцены, ее героев, их манеры и национальную традицию.
На любом языке, – вывел я для себя, – стоит писать только непереводимое.
Струсив, я предпочел русский.
3
Учась в школе, я твердо знал, что мне никогда не пригодится устный английский, ибо говорить на нем было решительно не с кем. Будучи в этом отношении мертвым языком, вроде латыни, английский предназначался исключительно для чтения всего того, что было недоступно в русском переводе. Так отец, пренебрегая оригиналом, прочел по-английски “Триумфальную арку” Ремарка и “Мемуары” Казановы.
В Америке эти эзотерические навыки оказались ненужными, а нужными я и сейчас не обзавелся, не зная, как говорить с простым народом. Я жму руку водопроводчику, чтоб не показаться снобом, и не спорю о цене, чтоб не показаться жмотом. Лишь однажды, разглядывая счет в 400 долларов за починенный кран, из которого всё равно капало, я попробовал напроситься мастеру в ученики, но он меня не взял.
Зато с левой интеллигенцией (правой я никогда не видел) найти общий язык оказалось раз плюнуть. Мы подружились на пикнике в День независимости. Свой национальный праздник тут отмечали как мы – 7 Ноября: потешаясь над властью. Среди гостей были актеры и музыканты, евреи и арабы, вегетарианцы и лесбиянки. Среди гостей не было охотников, скорняков, полицейских, республиканцев и русских, кроме меня, что не считается, потому что я уже научился голосовать за демократов. И еще здесь не было американских флажков, хотя левые в Америке считают себя не меньшими патриотами, чем правые. Они тоже любят родину и не стесняются ей говорить, что думают. Наши люди.
Ближе других я сошелся с писателем Ларри. Родившись в Южной Африке, он с детства ненавидел апартеид, боролся с неравенством и, сочувствуя нашей истории, предпочитал, как Окуджава, Ленина Сталину. Но меня больше интересовало не наше прошлое, а его.
– А в Кейптауне, – спрашивал я, – у вас слуги были?
– Практически нет, – отвечал Ларри, не чуя подвоха, – няня, шофер, сторож, кухарка. Ведь родители считались либералами и во всем себя ограничивали, когда дело касалось афроамериканцев.
– А почему “американцев”?
– Потому что, – отрезал Ларри, – в Америке слово на “н” не говорят. Разве что республиканцы.
Усвоив урок политкорректности, соотечественники обходили табу, называя негров “шахтерами”. Меру нашего расизма лапидарно определил Довлатов.
– Приходя на “Радио Свобода”, – говорил он, – я с белым охранником здороваюсь, а с черным еще и раскланиваюсь.
Боясь обидеть, да и просто боясь, мы относились к неграм с ужасом, не исключающим болезненного интереса и отчасти зависти.
– Негры, – считала русская Америка, – бедный и привилегированный класс, играющий в США ту же роль, что пролетариат в СССР.
К нам они относились не лучше.
– Такая милая, – говорила жене ее чернокожая коллега Анджела, – а замуж вышла за еврея.
Глубоко верующая пятидесятница, она знала и не забыла, что евреи распяли Христа. Но вышло так, что именно она стала моим проводником по интимному миру черной Америки, когда я упросил Анджелу взять меня в гарлемскую церковь. Я рвался туда потому, что негры считались утрированными американцами. Они казались нам непонятными вдвойне, особенно – в черной церкви, где белых не бывает. Дощатые стены храма украшали библейские картинки. Черными изображались все персонажи, кроме дьявола. Он был белым, во фраке, с хвостом и в цилиндре. По случаю воскресенья прихожане тоже надели всё лучшее. Напоминающий школьного тренера моложавый пастор лучился приветливостью.
– Покажем белому гостю, – представляя меня, сказал он пастве, – как мы славим Бога, ни в чем себе не отказывая.
И показали. Служба, начавшаяся на благостной ноте, вскоре стала азартной. Вся церковь пустилась в пляс. Многие, даже старушки, впали в транс и исходили пеной. Пастора били корчи, открывавшие путь к глоссолалии. Он заговорил, потом закричал и наконец запел на ангельских языках. Священнику уверенно вторила паства. Как и все остальные, я ничего не понимал, но, в отличие от остальных, чувствовал себя тут категорически посторонним, еле скрывая стыдное этнографическое, как у Миклухо-Маклая, любопытство.
Праздник кончился как начался: тихим стройным псалмом – но теперь все изменилось. Меня обнимали и поздравляли прихожане. Анджела даже пригласила в гости.
– Ничего, что еврей, – подбодрила она, – Бог, наверное, всех простит.
Я устало улыбался, будто сдал вступительный экзамен, только непонятно – куда.