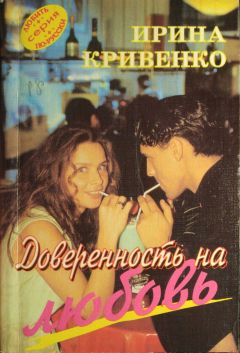Шамиль стройный мужчина, ражий, (в то время лет сорока, но говорили, что ему сорок пять), лицом бел, длинная окладистая черная борода; лицо умное, но с каким-то равнодушием, и нет ничего, чтобы заставило разгадывать. На голове его чалма с разноцветным тюрбаном; сверх обыкновенного платья надет был черный овчинный полушубок (мужчины вообще носят полушубки черного цвета, женщины белого), покрытый шелковой материей с черными и розовыми полосками.
* * *
Скоро мы всей фамилией начали свой покос. Тут я косил уже в запуски: но ревность к работе они удерживали и заставляли отдыхать вместе, а в день доводилось отдохнуть раз десять. Они говорили: «Нам стыдно одним сидеть и есть, мы устали, так и ты садись.»
И у Горцев так же как и у нас покос считается тяжелою работою, — «страда», говорят они; и к этому времени хозяйки припасают масло и сыр своим мужьям.
* * *
Ака и после, как старший в роде, все-таки был старшим и надо мной. Часто заботился, не голоден ли я, часто вызывал меня к себе и угощал теми огурцами, за которыми ходили я и его дочь, говоря: «Это, вот плоды твои и ее рук.» Худу улыбалась и вместе с отцом повторяла: «Сударь, я! я!» (кушай, кушай). Жена Аки — Туархан, Чергес, Пулло и двухлетняя Джанба все твердили: я! я! Старшие говорили: «Послушай, Сударь, Джанба и та тебя просит.»
Напоминая таким образом о своих ласках, Ака уговаривал меня перейти опять к себе, ссылаясь на Абазата, что у него нечего делать, и что он потому продаст кому-нибудь. Абазат, замечая это, в свою очередь говорил мне, что и у него не хуже Аки, что Ака не джигит, что он достанет себе лошадь и будет чаще в набегах, и что тогда будет у меня все платье. «Я знаю, Сударь, — говорил он, — почему ты тоскуешь: не одет? Вот, потерпи: я достану платье, и мы заживем!»
Много за меня доставалось Цаце, когда она напоминала ему, чтобы продал меня, что у них работы почти нет. Он же, надеясь на свое удальство, хотел сделать меня домоседом. Не раз шутя говорил он мне, когда уходил куда надолго, как например на недельный караул: «Ну, Сударь, если ты захочешь уйти, то не уходи так, а голову долой моей жене. Вот, топор в твоих руках. При таков шутке боязливо морщилась моя хозяйка и, в самом деле, никогда не оставалась со мной одна на ночь, а всегда призывала кого-нибудь.
* * *
На все просьбы родных и знакомых моих хозяев, отпустить меня к ним на работу, Абазат отказывал всем, кроме своего тестя, просьбе которого он уступал нехотя и потому только, что тот отдал за него лошадь. Этот старик, Високай, надеясь за долг взять меня, уговаривал меня перейти к себе, обещая отдать за меня свою дочь Хорху; но с намерением, как объяснил мне Абазат, из барышей перепродать в горы, где пленные ценятся втрое дороже чем в пригорных местах, где более возможности к побегу. Я не отказывался, а ссылался на Абазата, как он хочет; между тем сам упрашивал не продавать; Абазат обещал. Раз, выпросив меня себе, он отдал своему племяннику, без ведома Абазата; мне отказаться было нельзя и я должен был работать день новому хозяину. Тут не мог я смотреть без жалости на пленного, взятого под Кизляром. Он зависел от пятерых бывших в набеге, и потому работал каждому из них по-недельно, следовательно не имел отдыху. Оборванный, всегда в кандалах, он должен был трудиться, не смея отдохнуть без позволения своего хозяина; а это был один из пятерых злодеев. Но, несмотря ни на свою наготу, ни на старость, ни на кровь, текущую из под гаек, разогретых солнцем, Петр не унывал, или, лучше сказать, окаменел, и зло ругался на свою судьбу. Это был в то время человек, потерявший всякую надежду.
Нельзя было без сострадания смотреть, когда он, по приходе нашем домой, показывал мне то место где он спит. Оно было под койкой хозяев, где на ночь злая хозяйка всегда застанавливала его корытом. «Вот, посмотри, — говорил он, — как я живу!..» — «Что же делать! все-таки молись»! — «И молюсь когда, только поплачешь и вовсе голодный полезешь под кровать!..»
Хозяин этот, как довольно зажиточный, следовательно жадный к богатству, и любивший работать чужими руками, весь день просидел в тени; косу же взял на показ своим одноаульцам, что будет трудиться; наблюдал только за нами, не давая отдыха. Я, как подчиненный ему, начал говорить о том: «Ну, ты отдыхай, а Иван (как вообще презрительное имя) пусть косит.» — «Нет; если я устал, то он и подавно, как старше меня вдвое.» Когда я заметил ему, что я не работал так и у своих хозяев, он должен был дать отдых. В обиде я занял его разговорами, вообще о жизни человека; пенял ему за пренебрежение Петра: он отговаривался, что он с своей стороны и готов был бы одеть его, если бы он принадлежал ему одному; удивлялся, что я скоро понял их язык и говорил простосердечно: «Ну, ты мне все равно как брат, а Иван мужик, он ничего не знает, потому и обращаемся с ним так. Теперь ты садись со мною вместе, а Ивану нельзя.
По приходе домой я жаловался Абазату на Високая, что передал меня другому, Абазат отвечал: «У! Сударь, сердце мое болит (док ляза), что я должен угождать этому мошеннику! Что же делать! он тесть мне. Да и то бы ничего, если бы, не мое горе, я не зависел от него. Ты знаешь, что он заплатил за меня. Как уж я не угождаю ему! намедни и сам ему работал; вот и тебя посылаю всегда, как он попросит, хотя мне и совестно пред тобой, — все ни можешь! Жаль, что должен расплачиваться с ним. Ему хочется ведь тебя, он думает о тебе, как о всех Русских, что ты глуп, вот и маслит тебя, чтоб ты перешел к нему, а сам норовит продать подороже. Нет! не бывать этому! Хотя я не богат, однако барышничать не стану. Дай срок Сударь; вот придет осень — я достану счет и, может быть, расплачусь с ним. Так, невольно, женился я на его дочери. Я был еще мал, когда остался сиротой; дом наш был богатый, хозяйствовать было некому — и вот покойный Мики женил меня, думая, что она будет хорошая хозяйка; слухи об ней были хороши, а он поверил. Вот каково сиротствовать! Если б жива была мать моя, не было бы этого, она была женщина умная. А богатые, Сударь, или которые не знают горя, любят работать чужими руками и, не боясь, ни с кем не поделятся! Если бы ты попал к богачу, разве бы так жил как у меня? Я делю с тобой все пополам.»
* * *
Для пленных, за которых горцы надеются взять непременный выкуп, как казаков, или других, кроме солдат, делаются особенные кандалы. На обеих ногах, в две гайки, шириною в ладонь, продевается железный прут, в пол-аршина, наглухо, так что едва можно передвигать ноги. Если пленный подает подозрение к побегу, то надевают двое таких оков, или еще приковывается к ноге цепь, пуда в полтора, конец которой при работе пленник набрасывает себе на шею; на ночь же конец прикрепляется в сакле, к стене. В таких оковах пленные ходят постоянно, сколько бы ни прожили.