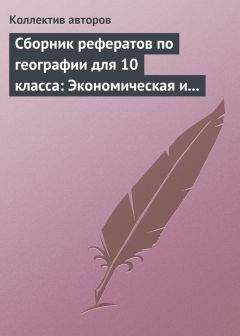Я слушал веселые пикировки за столом, смеялся, как и все, разглядывая тут же, мгновенно набросанные шаржи, а хотелось мне другого — услышать историю каждого, понять, вплотную ощутить свое время... Услышать и записать. Много лет спустя, когда Вера Григорьевна вышла на пенсию, а консультации, которые продолжала она давать в больнице, оставляли порядочно досуга, я принялся уговаривать ее взяться за мемуары, рассказать о тех годах жизни, которые были связаны с лагерем. Она была замечательный рассказчик, ей нравилось внимание, которое невольно сосредоточивалось на ней за столом; чем многочисленней собиралась компания, тем внимательней, казалось, ее слушали. Но что — слова, пока они не легли на бумагу?..
Была глухая пора начала восьмидесятых годов. О Двадцатом съезде не упоминали, Сталин все чаще появлялся на киноэкранах, за чтение «Архипелага ГУЛАГ» гнали с работы, давали срок. В это время старая женщина, чьи глаза с каждым днем видели все хуже, по утрам садилась к столу и стремительным, неразборчивым — «врачебным» — почерком, тем самым, которым были заполнены прежде тысячи историй болезни, исписывала две-три страницы. После ее смерти я получил их, аккуратно сложенные внуком, в большой, неуклюжей, но надежной самодельной папке из плотного картона.
— Зачем же я буду писать? — помню, спросила она.— Кто и когда это прочтет?
— Не знаю,— сказал я.— Знаю только, что об этом надо написать.
— Я обычный, рядовой человек, и в судьбе моей нет ничего сверхординарного... Наоборот, мне было лучше, чем многим. Благополучная в общем-то судьба. И вообще — какой из меня романист?..
— Да разве я о романе говорю? Пусть это будут... Будут просто записки врача. Как, например, у Вересаева. Только — совсем о другом...
Вернувшись в декабре 1936 года с Чрезвычайного съезда Советов, на котором была принята новая Конституция СССР, первый секретарь астраханского горкома партии собрал у себя дома несколько человек, и нас с мужем1 в том числе. За столом хозяин дома много и интересно рассказывал о съезде. Вдруг я услышала чьи-то слова: «Ну, теперь начнутся массовые аресты».
1 Василий Иванович Сусаров — врач, заведовал облздравом в г. Астрахани. Расстрелян в 1938 году, впоследствии реабилитирован.
Жизнь между тем текла как будто спокойно, размеренно. Я работала над диссертацией, занималась со студентами. Муж также трудился. Встретили 1937 год. Я списалась с заведующим кафедрой патанатомии Саратовского мединститута и повезла ему свою работу на рецензию. И вдруг в Саратове к своему ужасу узнаю, что профессор арестован.
С начала 1937 года и в Астрахани начали «исчезать» некоторые партийцы и беспартийные тоже.
Из нашего мединститута первым пострадал заведующий кафедрой гистологии. Говорили, что он обвиняется в национализме (он — белорус). Вторым репрессировали заведующего кафедрой общей гигиены. Я помнила, как на одном из заседаний кружка по изучению марксизма он горячо доказывал, что проституция — тоже форма труда, для проститутки даже тяжелого. Говорили, это послужило одной из причин его ареста.
Несколько позже арестовали швейцара института. По слухам, он сознался, что много лет был шпионом каких-то государств.
С мая муж отметил, что к нему значительно ухудшилось отношение в партийных кругах, и однажды, придя с заседания партийного актива, объявил, что его исключили из партии. Через несколько дней сняли с заведования облздравом. При исключении из партии объявили, что под его руководством новый родильный дом построен вредительски, пользовать его нельзя. Однако, побывав в Астрахани в 1972 году, я убедилась, что этот самый роддом благополучно функционирует с полной нагрузкой.
Муж еще работал в мединституте. Время было каникулярное, и мы с ним и с дочкой уехали в Ленинград. Здесь мы занимались в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. Я видела, как мучительно трудно мужу писать в анкете — «беспартийный». Он сын рабочих — и по матери, и по отцу. Вырос в бедноте. Партии был предан беспредельно.
В партию был принят 16-ти лет, когда работал в селе избачом. И он — «беспартийный»...
В начале августа мы приехали в Москву к моей сестре и на другой день муж выехал в Астрахань.
Одиннадцатого августа я получила телеграмму за подписью мужа: «Немедленно возвращайся домой». Оставив дочь в Москве, я выехала в Астрахань. На вокзале меня встретил тесть моего брата и рассказал, что одиннадцатого августа моего мужа арестовали и дома у нас только няня. Жили мы с ним в одном доме, но ехать вместе со мной он отказался из-за боязни за себя и свою семью. Взяла я извозчика и поехала одна. Путь мой лежал мимо квартиры двоюродной сестры, очень близкой мне. Заехала я к сестре. Увидев меня, Рая явно испугалась, дальше передней не пустила и, не дожидаясь моих вопросов, заявила, что ничего-ничего не знает о моем доме, слышала только, что муж мой арестован. Не поинтересовалась, где моя дочь, и быстро выпроводила. Извозчик меня ждал. Приехала я домой. Нянечка встретила меня сердечно, плача, рассказала, что мужа арестовали одиннадцатого августа, разрешили послать мне телеграмму, проверенную следователем, затем отдали ее няне и велели утром отправить. На следующий день после моего приезда позвонил из НКВД следователь, назвал свою фамилию — Трушин, объяснил, что ведет дело мужа, и поинтересовался, привезла ли я дочь. Узнав, что я вернулась без дочери, одобрил. На вопрос, возможны ли передачи и какие, ответил, что разрешается передавать белье, деньги же и продукты не следует посылать, так как у них есть все, вплоть до фруктов. Разрешается передавать и газеты. И я ровно год передавала белье и четыре месяца газеты, пока не узнала, что никогда ни одна газета не была передана. Чистое белье передавали, а грязное не возвращали.
В сентябре 1939 года началось мое полное одиночество. Дочка была в Москве. Со мной жила ее нянечка, прекрасной души человек. Больше ни с кем общения не было. В октябре 1937 года меня уволили из мединститута, где я была ассистентом на кафедре терапии, с оригинальной формулировкой: «по собственному желанию и политическому недоверию». В институте я проработала около 15 лет. К этому времени ряды партийных работников в Астрахани заметно поредели. Застрелился председатель горисполкома, повесился заведующий коммунальным отделом.
В инфекционной больнице, где мне удалось устроиться, имелось и детское отделение. В Астрахани в 1937 году создали детский дом для детей «спецконтингента», как обозначали репрессированных родителей. Оттуда к нам в различные отделения поступали заболевшие дети. Очень запомнились мне брат и сестра лет двенадцати. Отец у них работал торгпредом в какой-то стране. Репрессировали и его, и жену. Дети были присланы в Астрахань из Москвы. Оба ребенка поступили к нам с брюшным тифом. Трогательную картину представлял нежный, внимательный уход брата за сестренкой. Я их приняла и направила в одну палату. Когда детей переодевали в больничное, из карманов одежды мальчика посыпались бумажки. Оказалось, это почтовые квитанции. Дети писали Сталину, Ворошилову, Молотову, что их родители честные коммунисты и что их надо немедленно освободить...