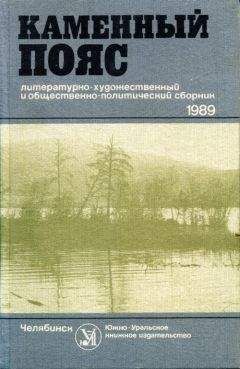— Я знаю Виктора Александровича, — сказала Нина, — он живет недалеко от нас, работал в нашей поликлинике. Я лечилась у него. Он — хороший врач… Что ж, я рада за тебя.
— Как у тебя дела?
— Ничего хорошего. Помнишь, я жаловалась на боли в позвоночнике. Все говорили: острый хондрос, а в этот раз проверяли и сказали: нет, не хондрос, а… наша болезнь. Химию не принимаю — язва желудка, отменили, облучают.
— Помогает?
— Вроде легче. Ох, Сонечка, чувствую, придумают что-то скоро. Только бы дожить, только бы продержаться…
Родная! Как она сказала: только бы продержаться! Сестры, сестры мои!.. Эта заполнявшая меня жалость и боль была невыносима. И хотя было и раньше, были мгновения, когда, идя по улице города, я, словно со стороны, видела людей, спешащих куда-то в своих делах, в суете, бесконечных стояниях по очередям, и чувствуя необъяснимую глубокую нежность к этим людям, чувствуя родство с ними и с городом, потому что родной город, мой город, и все здесь было, не только плохое, было и хорошее, но эти мгновения так редки, а здесь вся горестная жизнь, сотканная из таких мгновений боли, колотится в сердце, требуя принять чужую боль и что-то сделать. Что, господи боже, что…
Я стала рассказывать Нине про иммунное лечение, про Матэ, новую книгу которого я недавно прочитала:
— Вот это человек! Ты представляешь, он еще в пятьдесят девятом году сделал первую в мире пересадку костного мозга югославским физикам, получившим смертельную дозу облучения. Четверо из пятерых остались в живых, а женщина (среди них одна женщина была) через два года родила ребенка!
— Чудеса! — Нина покачала головой и улыбнулась. — Я же говорю: придумают скоро что-нибудь. Я в Москве слышала про пересадку костного мозга… — и добавила после паузы, — а ты, значит, книги все эти стала читать. Зачем? Хочешь стать врачом?
— Что ты! Впрочем, если врачом для себя — пожалуй. Понимаешь, я не хочу, как наши старушки, которые переписывают друг у друга какие-то подозрительные рецепты, а сами все равно лечатся в больнице. Нет, я с наукой спорить не собираюсь. Просто хочу с ее помощью найти для себя единственно верное средство, то, что подходит именно мне.
— Не знаю, Сонечка, что тебе и сказать. Даже если ты будешь знать столько, сколько знает врач, что ты сможешь сделать сама? Даже лекарства без них не получишь. И потом наша больница считается очень хорошей. И врачи наши. Та же Кира Сергеевна. Скольким она помогла. И тебе тоже. Разве не так?
Я молчу. Да, именно Кира Сергеевна, когда я отказалась ложиться в лучевое отделение, сказала, что берет меня к себе. Заведующая отделением химиотерапии Кира Сергеевна, несмотря на ангельскую внешность, строга и принципиальна. Впрочем, эти качества сами по себе, как известно, положительные. Но вот однажды я слышала, как именно она, повысив голос, выговаривала каким-то больным, которые провинились, кстати, в довольно незначительном: утюгом воспользовались без разрешения:
— Вы должны благодарить судьбу за то, что вас сюда взяли!
А за что, собственно, ее благодарить, судьбу? И почему это такая уж большая милость, а не обязанность — лечить нас? Что это за барственность такая, откуда она? Естественно, что соответствующее отношение к больным перенимает и младший медицинский персонал, только делает это в более откровенной и беспардонной форме.
А Людочка из соседней палаты?
— Ты помнишь Людочку, Людмилу? У нее что-то здесь, — я показываю на живот.
— Люду? Помню. У нее рак брюшной полости.
— Так вот эта Люда рассказывала, как однажды на обходе Кира Сергеевна, подойдя к ее постели, спросила: что, умирать-то не хочется?
— Так и сказала? Быть не может!
— Думаешь, Люда выдумала, а зачем? Я вполне допускаю, что она могла так сказать. — И я снова вспоминаю Киру Сергеевну. Во время обхода она всегда спокойна и бесстрастна, легкая улыбка на губах, официальная и в то же время загадочная улыбка Моны Лизы, и какой-то холодок, как дистанция: вот — ты, а вот — я. Словно читая мои мысли, Нина говорит:
— Она хороший врач, Сонечка, очень хороший.
— Ты хочешь сказать, знающий врач, опытный, но… хороший — это совсем другое.
— А в чем разница-то?
— У тебя и Кира Сергеевна — хороший врач, и Виктор Александрович. Но она, как мне кажется, — равнодушный человек, а он — добрый, человечный. В этом вся разница, но очень существенная.
— Ты думаешь, им с нами так уж легко? Больные тоже всякие бывают.
— Бывают. Но прав все-таки больной, потому что он болен, ему и так тяжело. Посмотри, как сестры выговаривают нам за малейшую мелочь, как воспитывают, а попробуй им что-нибудь сказать — дым до потолка. Между тем, когда они сами превращаются в больных, то хуже никого быть не может, никакой сдержанности, достоинства.
— Знаешь, что я вспомнила? Когда я лечилась в Москве, там был один врач. Хам, жестокий такой, как он с больными разговаривал! Мы его ненавидели. А потом вдруг узнали, что он сам заболел, да чем: рак печени! И ты знаешь, мы обрадовались, ходили, спрашивали, как он. Если плохо — у нас праздник.
— Я и сама, когда сталкиваюсь теперь с хамством, грубостью, жестокостью, думаю: эх, вас хотя бы на месяц в нашу больницу!.. Знаешь, какой должен быть врач? Чтобы можно было в него влюбиться!
— Как это — влюбиться? — Нина улыбнулась удивленно.
— Не в прямом же смысле, — пытаюсь вывернуться я, чувствуя, что чуть не проговорилась, — я в хирургии лежала недолго, а наш лечащий врач, Евгений Иванович, в это время в отпуск уходил, только раз я его и видела. Помню, пришел на обход. Громадный такой, а руки мягкие, добрые. И говорит… немножко грубовато, но так… тепло, что ли. Женщины все влюблены в него были и все ему рассказывали, потому что верили ему во всем безоглядно. Где они, такие врачи? Если часть больных, как я, уходят в самолечение, в чтение медицинской литературы, то делают они это не от хорошей жизни, а от неверия врачу, оттого, что звание врача уже не имеет своей магической силы.
Я заметила, что Нина держится рукой за спину и морщится.
— Больно тебе?
— Да, — она поднялась, — прости, пойду я. Не могу долго стоять и сидеть. А так бы хотелось еще поговорить с тобой…
Она достает из кармана нейлонового халата газетную вырезку, потертую на сгибах и пожелтевшую:
— Мы тут тоже кое-что читаем…
Я держу в руках зачитанную до дыр газетную страничку с популярной статьей и снова, в который раз, думаю о таких больных, как я, о том, как жадно пытаемся мы найти хоть маленький лучик надежды.
Простившись с Ниной, я выхожу на улицу. Стыд. За минувший месяц я ни разу ее не навестила. Я была счастлива, и мне хотелось забыть о горе, боли, несчастьях. Я счастлива?.. А разве нет? Бред какой-то!..