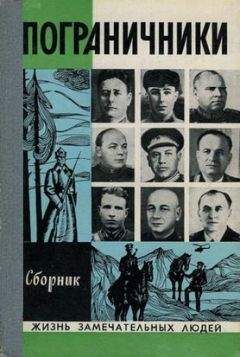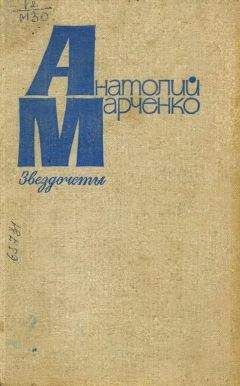Разве не был он капитаном этого здания-корабля, в подвалах которого все еще хранились в запаянных цинковых коробках патроны, лежали в ящиках гранаты, бронзовые детонаторы, винтовки?
А быть может, стоя у окошка подвала, Лопатин вспоминал осенний день 1939 года? То был день, когда его производили в офицеры и он прощался с родным училищем…
«Направьте меня на запад, — попросил тогда Лопатин. — Где-то там погиб от немецкой пули мой отец».
Во Львове, прежде чем явиться за назначением, Алексей Лопатин взобрался на Высокий замок. Над его обрывистыми склонами, поросшими смереками, грабами, березами, над близкой к замку могилой первопечатника Руси Ивана Федорова Алексей Лопатин вспоминал свои родные места.
Здесь, на склонах Высокого замка во Львове, Лопатин с особой остротой осознал, как велика, необозрима его Родина, его Отечество, пославшее лейтенанта-ивановца сюда, в Галичину, охранять рубежи воссоединенной навеки украинской земли.
— Пойдем, товарищ начальник! — более настойчиво, прикасаясь к плечу Лопатина, говорит Гласова.
Дариченко уже умер. Его накрыли простыней и отнесли на носилках в сторону.
Лопатин отошел от окна, осветил лежащего в беспамятстве Данилина и сказал:
— Нет, Дусенька, никуда мы, мужчины, не пойдем. Я без приказа заставу не оставлю. Вы с детьми идите прямиком на Стенятин, а потом заворачивайте к лесу. Одних вас, без военных, пожалуй, никто не тронет. А с нами попадетесь.
Прощались уже на крыльце. Туман поднялся высоко. Сейчас он застилал белой клочкообразной пеленой весь двор заставы, скрадывал очертания сгоревших конюшен, неслышно и воровато взбирался на побитое осколками крыльцо. И всем казалось, что не у развалин дома они стоят, а на макушке высокой, неприступной горы, пробившейся к небу сквозь слой густых облаков.
Алексей Лопатин крепко поцеловал Славика, легко прикоснулся ко лбу Толи, стараясь не разбудить малыша, осторожно обнял жену. Он простился и с остальными женщинами, погладил по головке Светлану Погорелову и тихо сказал:
— Прощайте! Клянемся вам, что будем биться до последнего, но живыми фашистам не сдадимся!
Утром, едва взошло солнце и клочья тумана, разгоняемые его лучами, расползались и как бы таяли, оставляя мокрые следы на скрюченных трупах немцев, опять заговорили два станковых пулемета. Им вторили одиночные винтовочные выстрелы.
Маленькая горсточка пограничников — последние защитники заставы над Бугом — выполняли клятву, данную лейтенантом Алексеем Лопатиным от их имени.
Шел девятый день обороны заставы, понедельник 30 июня 1941 года.
В это утро немецкие войска с разных направлений входили во Львов.
Старинное село Скоморохи было уже в глубоком тылу гитлеровских войск.
Однако по-прежнему государственный флаг Советского Союза развевался над развалинами фольварка, на высоком холме, припорошенном кирпичной пылью.
Светало, когда женщины с детьми подошли к Стенятину.
С горькими складками в уголках рта шла впереди всех Погорелова. Было условлено: на все вопросы встречных будет отвечать именно она, полтавчанка, хорошо знающая украинский язык. «Пусть думают, что мы местные», — решили женщины.
Показались первые хаты Стенятина.
Из сарая большой усадьбы слышалось, как журчат струи сдаиваемого молока. Женщины переглянулись и замедлили шаг.
— Давай попросим молока, Фиса? — шепнула Гласова, вопросительно глядя на Лопатину.
О себе они уже не думали. Лишь бы маленького Толю молоком напоить.
— Пусть Погорелова попросит, — сказала Лопатина, доставая деньги, которые дал ей на дорогу муж.
— Хозяйка, а хозяйка! — нерешительно позвала Погорелова.
На ее зов из-за хаты вышел высокий огненно-рыжий человек с лицом, еще мокрым от умывания.
Уже одна его серо-зеленая шапка с двумя рожками над куцым околышем насторожила женщин. Сбитая на затылок, она была украшена каким-то блестящим новеньким значком. Это был «тризуб» — знак украинских националистов.
Если бы среди женщин был кто-нибудь из галичанок, то они сразу бы по этой шапке-«мазепинке», какую носили «украинские сичовые стрельцы», служившие австрийцам в первую мировую войну, определили, что за человек подошел к ним. Но все три женщины еще мало жили в Западной Украине, не знали ни местных обычаев, ни истории этого края и поэтому спокойно ожидали этого долговязого в рогатой шапке.
— Вам чего?
— Хлопчик больной. Молока продайте! — сказала Погорелова, кивая на спящего Толю.
— А вы откуда? — спросил рыжий в «мазепинке».
Позже они узнали, что его зовут Иван Кней. Уроженец Бабятина, он был прислан на пополнение созданной немцами украинской полиции.
— Мы… из Сокаля! — некстати вмешалась Гласова.
— Из Сокаля? А почему грязные такие? Не врите, сознайтесь: откуда?
Проклиная себя за остановку у плетня, женщины молчали.
— Пойдем, что ли! — упрямо встряхивая волосами, сказала Гласова. — Раз им жалко кружку молока продать, не будем упрашивать! — и шагнула в сторону дороги.
— Стой! — во всю глотку закричал Кней. — Я тебе дам «па-а-айдем»! Откуда, говорите? Ну? С заставы, верно? — И он ухмыльнулся, довольный догадкой…
…После долгих мытарств по фашистским застенкам, после побоев, издевательств женщины тринадцатой заставы были отправлены на жительство под надзором в Скоморохи.
Первой приютила в Скоморохах женщин с заставы семья бывшего счетовода колхоза Петра Баштыка.
От него женщины узнали, что красный флаг над заставой вился до 2 июля 1941 года. Лишь в этот день немецкие саперы с помощью подкопа подвели к заставе большую мину, и грохот взрыва потряс остатки дома, подымая вверх целые куски его фундамента и огромный столб кирпичного крошева.
Потом все затихло, и ни одного выстрела в районе фольварка жители больше не слыхали.
Фашисты строго-настрого запретили мирному населению приближаться к заставе.
Холодной осенней ночью в это страшное время установления «нового порядка» на землях Сокальщины Евдокия Гласова отважилась пробраться к развалинам тринадцатой заставы. Вместе с ней туда отправились Петр Баштык и Погорелова. Первым через окошко спрыгнул в подвал заставы Петр Баштык. Он помог спуститься туда и женщинам.
Полуистлевшие матрацы были завалены обломками кирпича. Доски, на которых некогда сидели пограничники, были перевернуты или разбиты. Чиркая перед собой спичками, Петр Баштык помог Гласовой пролезть в узенькую дыру в стене, в тот самый отсек, где она оставила тело своего мужа.
В полной темноте Гласова сломала одну за другой несколько спичек. Наконец ей удалось зажечь огарок церковной свечки. Пламя, растопляя воск на фитиле, увеличивалось, и при его дрожащем, зыбком свете Гласова нашла высохшее тело мужа. Все еще была забинтована простыней его голова. Почти вся одежда истлела.