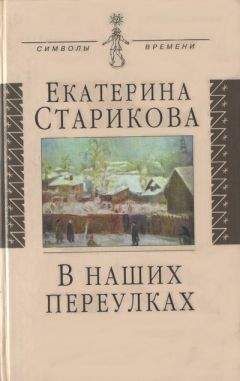Из-за чего застрелился директор конного завода? Я так никогда этого и не узнала. Как мог его заместитель так весело над этим потешаться? Я так этого и не поняла. А вот теперь думаю, что этот смех, устойчивая ирония, постоянные розыгрыши, вероятно, были средством защиты от абсурдности всего происходившего и формой сопротивления страху. В 1937 году Александру Николаевичу было уже сорок семь лет, моей тетке тридцать пять. Уже двадцать лет старая по происхождению интеллигенция жила если и не в постоянном, то в постоянно возобновляющемся страхе. Вот и смеялись над всем, над чем можно и нельзя. К тому же, пережив дискредитацию как дворяне, они, вероятно, злорадствовали, что теперь добрались и до большевиков. Никто в Тамбове ни о чем подобном со мной не разговаривал, мы всё должны были сами впитывать из воздуха и искать в нем же объяснения своим недоумениям. Я и ощущала нечто, отличавшее дом моей тетки от дома нашего. Вероятно, это отличие можно было бы назвать если не цинизмом, то равнодушием к «чужому». У мамы этого как раз не было. Ее скорее можно было упрекнуть в равнодушии к «своему» и в горячем пристрастии к общему. Ее и упрекали. Сестры, в частности. Это я тоже постоянно ощущала.
А жизнь в тамбовском доме моей тетки текла уютная. В распоряжении Александра Николаевича была прекрасная лошадь и экипаж, стоявшие в конюшне во дворе при доме. Во флигеле жил кучер с женой и дочкой Клавой, моей единственной подругой в то лето. На рынок мы с теткой ездили в коляске, иногда, к восторгу городских мальчишек, я сама, сидя на облучке, правила лошадью (научилась этому быстро). Рынок в Тамбове был изобилен и, вероятно, дешев. Тетка покупала — если баранину, то целую ногу, если малину или вишню, то целое решето (так с решетом и продавали). В саду варили тазы варенья до глубокого вечера, когда в сумерках начинали благоухать маттиолы и табаки, высокие и мощные, как никогда под Москвой. Наша Флотская улица упиралась прямо в берег Цны, и мы с теткой рано утром ходили купаться. Там, в Цне, я однажды тонула, навсегда испугавшись водной глубины. Когда приезжали гости, а гости в Тамбове бывали не редкостью, в том числе дедушка, брали лодки и, катаясь по реке, пели хором. Все баловали трехлетнюю Люлю, прелестного кудрявого ребенка. Я располнела, сшитое весной платье (платье всегда было в единственном числе) еле влезало на меня, но взрослые считали, что я похорошела. Ничто, казалось, не предвещало никаких бед, ни близких, ни дальних. Голубоглазая моя тетка ходила в украинской вышитой рубахе — дородная, загорелая, спокойная. Как она-то не заметила приближение несчастья? Когда она его заметила? Или это я пропустила ее всё растущую тревогу?
Изредка я получала письма то от мамы, то от папы, но мало думала о доме, как бы гнала от себя мысли о нем. Письма были успокоительные. Почему же я так плакала однажды, получив мамино письмо? Помню, как лежала под яблоней, под ее ветками, согнутыми шатром тяжелыми плодами, и сотрясалась от конвульсивных рыданий, смачивая потоками слез сухую теплую землю. Что я прочла в том письме? Почувствовала, что меня нарочно успокаивают?
Сколько разных впечатлений и настроений впитывает в себя одновременно человек в молодости! Как это в нем сочетается? Тамбовский сытый уют и предчувствие неясной беды, ощущение полного своего здоровья и отчаянное отвращение к собственному вдруг повзрослевшему телу, увлечение беспорядочным запойным чтением и гордость от приобретенного умения править лошадью и грести — и все это вместе. Особое место заняло во мне тогда впечатление от приезда в Тамбов Наташи Владыкиной — двадцатилетней родственницы, только что вышедшей замуж. Я восхищенно следила за ее цветущей женственностью, провожая влюбленными глазами каждый ее жест и все приметы взрослого, какого-то удивительно изящного существования — флакон одеколона поверх вещей в только что открытом чемодане, голубую жилку на ее зрелой молочно-белой груди, темно-золотую прядь вьющихся волос, выбившуюся из ее строгой прически. А когда эта самая недостижимо-идеальная Наташа сама, из своей материи и со своими пуговицами сшила мне блузку, моей влюбленности в нее не стало границ.
Если опустить в памяти восхищение Наташей и ее блузкой, запах маттиолы и влажного чернозема, размеры тамбовских подсолнухов и прозрачность быстрой Цны, розыгрыши Сашки Владыкина (так все взрослые звали А.Н.), катание на пролетке и еще тысячи подробностей того лета, а оставить только главное, то это была бы неправда. А все-таки придется обратиться к главным событиям той поры. Как не хочется этого делать! Правда — это как тяжелый долг. Перед кем?
К началу августа уже все стали замечать, что маленькая Люля стала совсем другой. То болтала, пела, рассказывала сказки, а то замолчала. Не сразу, а постепенно. Все меньше слов и все больше уединения. Все в доме тайно друг от друга наблюдали за ребенком, ничего не говоря о своей тревоге. Кто первый сказал о ней? Наверное, мать. Если нашла в себе силы произнести страшное слово. Скорее, отец. В середине августа впервые обратились к врачу. Я ждала их троих у калитки докторского дома. Когда они вышли из него, я сразу поняла: беда. По лицам. На словах они успокаивали друг друга: конечно, врач прав, надо еще с кем-то посоветоваться, вряд ли это результат того маленького гриппа в июне, 37,5 — разве это причина для осложнения? «Надо скорее ехать в Москву!» — вдруг пронзительно закричала тетя Лёля. Она впервые показала свой испуг. Александр Николаевич ее успокаивал, говоря, что он завтра же постарается достать билеты на поезд.
И тут я заболела малярией — внезапный острый приступ старой болезни с высочайшей температурой. Наш общий отъезд отложился на целых десять дней. Сыграло это роль в будущей трагедии? Вряд ли. Средств от этой болезни не было. Скажу коротко: Люля до конца жизни не сказала ни слова. Вернее, еще одно. Когда в Москве ее поместили в больницу и попросили мать не навещать ее месяц и когда по истечении месяца тетя Лёля появилась в палате, Люля подбежала к ней с криком: «Мама!» Это было ее последнее слово. Она сказала его в четыре года, а прожила до двадцати девяти лет, никогда больше не покидая дома. Уже московского дома, в 1941 году осиротевшего: Александр Николаевич был убит под Вязьмой в октябре, когда Люлиной сестре Маше было два года, дом же Владыкиных был разбомблен 9 ноября 1941 года, когда они все, к счастью, жили у нас. Я больше ничего не буду рассказывать об этих бедах. То отдельная горестная повесть.
20
А в конце августа 1937 года под вечер мы вчетвером вышли из вагона на платформу Павелецкого вокзала. У меня в руках был удивительный своей величиной тамбовский подсолнух и крынка с малиновым вареньем. Еще из окна вагона я увидела головы мамы и папы и потому улыбалась во весь рот: они вместе! Какое счастье. И только ступила на платформу, как сердце мое покатилось куда-то вниз: мама была беременна. Почему я сразу поняла, что это конец, почему я поняла правильно? Ведь это могло означать и другое? Не могло. Знакомое физическое отвращение к матери подсказало правду. Там, на платформе, я старалась ничем не показать своего состояния. Родители тоже. Я заговорила преувеличенно оживленно о новой блузке. Мы все улыбались. И сестры друг другу. Я поняла, что они обе обоюдно осведомлены обо всем и только я одна ничего не знала. И такая моя догадка подтвердила окончательно мою уверенность в беде. Я не помню, как мы оказались дома.