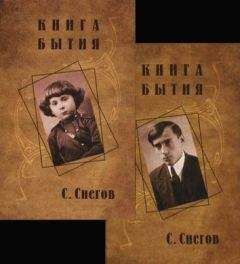Я вошел в класс с позорно накрашенным ртом — и сел за парту, прикрыв лицо рукой. Михаил Павлович осведомился, буду ли я выступать. Я мрачно пробубнил, что реферат замечательный — у меня нет к нему претензий.
После урока Доля хохотала так звонко и радовалась так искренно, что я простил ей это издевательство.
Михаила Павловича уже не было в нашей школе, когда я поступил на физмат одесского университета. Но мне передавали, что он очень расстроился.
— Какая ошибка! Ну, что Сергею в этой физике?
А спустя примерно сорок-сорок пять лет мой близкий и долгий (до самой его смерти) друг Борис Ланда приехал в Ленинград, чтобы проконсультироваться с Михаилом Павловичем по поводу своей работы о Достоевском, — академик Алексеев был, вероятно, самым видным у нас знатоком этого писателя. И в беседе упомянул обо мне, его давнем ученике. Михаил Павлович оживился.
— Так вы говорите, Сережа стал писателем? Никогда не сомневался, что он должен закончить именно литературой. Столько напутал, столько ненужных профессий насобирал, пока не вывернулся на единственную правильную дорогу!
И последнее.
Где-то в шестидесятых годах я увидел портрет Михаила Павловича. Я не узнал его — передо мной было совершенно незнакомое лицо. Если бы я встретил этого человека на улице, я бы прошел мимо, не поздоровавшись.
Все мы меняемся с годами…
Два года, проведенные мной в профшколе № 2, были временем расцвета нэпа. Новая буржуазия широко шагнула вперед. Страна, еще недавно нищая, оборванная, донельзя измученная голодом и разрухой, преобразилась. Она богатела, наливалась живительными соками. Крестьяне распахивали оставленные помещичьи земли, заваливали базары и рынки мясом и салом, молоком и творогом, хлебом и ягодами. Усердно работали ремесленники. В городах открывались сияющие электричеством новые Чичкины, Елисеевы, Филипповы — количество товаров уже не уступало прежнему, дореволюционному.
Василий Шульгин, монархист, убежденный враг большевизма, тайно посетил Ленинград, Москву и Киев и, вернувшись к родной эмиграции, выпустил книгу «Три столицы», в которой удивленно заметил, что в Совдепии жизнь сытая и благополучная, как при царизме, только качество товаров, может быть, несколько похуже — на деликатесы и редкости в магазинах пока не бросаются.
Главным достижением нэповского периода было, конечно, внезапно грянувшее обилие продовольствия. Народ отъедался.
Поэт Эдуард Багрицкий, пока еще голодный (поэзия, если она настоящая, обычно начинает жировать в последнюю очередь), писал в 1926 году:
… плывет, плывет
Витрин воспаленный строй:
Чудовищной пищей пылает ночь,
Стеклянной наледью блюд…
Там всходит огромная ветчина,
Пунцовая, как закат,
И перистым облаком влажный жир
Ее обволок вокруг.
Там яблок румяные кулаки
Вылазят вон из корзин;
Там ядра апельсинов полны
Взрывчатою кислотой.
Там круглые торты стоят Москвой,
В кремлях леденцов и слив;
Там тысячу тысяч пирожков,
Румяных, как детский сад,
Осыпала сахарная пурга,
Истыкал цукатный дождь…
В том же 1926-м и у того же Багрицкого появляется и недоброе напоминание о том, что не хлебом единым жив человек и жратва вовсе не должна быть объектом обожествления — в глухих недрах общества вскипала ярость против изобилия, отпущенного не всем одинаково.
Всем неудачникам хвала и слава!
Хвала тому, кто в жажде быть свободным,
Как дар хранит свое дневное право
Три раза есть и трижды быть голодным.
Он слеп, он натыкается на стены,
Он одинок. Он ковыляет робко.
Зато ему пребудут драгоценны
Пшеничный хлеб и жирная похлебка.
Когда ж, овеяно предсмертной ленью,
Его дыханье вылетит из мира —
Он сытое найдет успокоенье
В тени обетованного трактира.
Багрицкий чутко ощущал вулканические потрясения, пока только нарождавшиеся в обществе и потрясавшие лишь политическое руководство — узкий круг фанатиков и фантазеров, персонифицировавших в себе государственную власть. Кто-то из них исступленно кричал о растущем засилье кулачества, заваливающего рынки продовольствием и требующего промышленных товаров. Кто-то успокаивал встревоженных крестьян: «Обогащайтесь!» Кто-то сетовал, что запаздывает мировая революция, — вот главное несчастье. Надо бы не жалеть ни денег, ни людей, чтобы подстегнуть Запад на добрый пожар, а Восток — на вселенскую смуту. Кто-то провозглашал, что на ближайшее время обойдемся и без мировой революции — будем строить социализм в своем отдельном дому, вот только придушить бы расплодившихся буржуйчиков (кулаков на селе и нэпманов в городе). И те, которые еще недавно с упоением твердили:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови.
Господи, благослови![32] —
отворачивались от затихшего Запада и недобро присматривались к собственной стране: уж слишком много развелось желающих отдохнуть в тени обетованного трактира, надо бы прервать их сытое успокоение. А то разленились вполне по Маяковскому:
Шел я верхом, шел я низом,
Строил я социализм.
Не достроил, и устал,
И уселся у моста.
Проницательные умы уже занимались своим прямым делом — проницали в пыльной схватке дискуссий, что благородная идея «не хлебом единым жив человек» при социалистическом осуществлении постепенно приведет к жизни без хлеба, на одних картофельных очистках и древесной коре — зато с полным набором высших эгалитарных идей.
В обществе, отдыхающем после мора гражданской войны, нарастало неравенство, пока еще мелкое, кухонно-бытовое, а на него уже вздымался вал уравниловки — готовилось повторение того, что было испытано при Савонароле[33] во Флоренции, при Иоганне[34] в Лейдене, но только безмерно умноженное, тысячекратно более свирепое и жестокое.
Народ набирался силы, становился зажиточным — нужно было радоваться, а в нем зрели грозные зерна новых потрясений. Нам обещали всеобщую одинаковость — революция не исполнила своих клятв, она нас обманула!
«За что боролись, на то и напоролись!» — цинично оценивали новую жизнь разочаровавшиеся, а она каждым своим живым вздохом опровергала иллюзии, когда-то поднявшие их на кровавую борьбу. Это разочарование постепенно преобразовывалось в запал новой войны, не менее кровавой и еще более беспощадной.