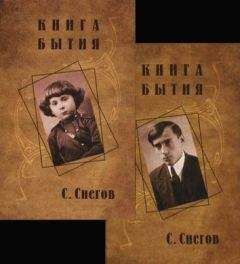«За что боролись, на то и напоролись!» — цинично оценивали новую жизнь разочаровавшиеся, а она каждым своим живым вздохом опровергала иллюзии, когда-то поднявшие их на кровавую борьбу. Это разочарование постепенно преобразовывалось в запал новой войны, не менее кровавой и еще более беспощадной.
Друг Ленина, его ученик, при жизни вождя докладывавший от имени ЦК партии (как новый главный партийный руководитель) на двух съездах (XII и XIII), Григорий Зиновьев опубликовал руководящую статью «Философия эпохи» — и философия эта, по Зиновьеву, заключалась в жажде равенства как глубинном позыве человечества, как истинном смысле развития. И хоть сам Григорий Евсеевич в дальнейшем погиб во внутрипартийной свалке за руководящее кресло, эта объявленная председателем Коминтерна главная идея предвещала чудовищные революционные циклоны надо всем миром.
Жизнь опровергала иллюзии, фанатики, творившие их (для себя и на всеобщее пользование), отвечали: тем хуже для жизни, будем ее резать по нашим единственно правильным меркам. Именно из зиновьевского окружения впервые понеслись истерические требования об ограничении кулачества, об окорачивании нэпманов. Отсюда было рукой подать и до ликвидации. Сам Зиновьев, правда, так и не осуществил своей эпохальной философии — это сделали после него люди покрепче и пожестче. Впрочем, они тоже были жрецами равенства — то есть гнездившихся в душе народа иллюзий о том, чего ему, народу, не хватает для полного общественного блаженства.
Интересно, что идею эту исподтишка осмеивали. В «Крокодиле», самом популярном сатирическом журнале, некто под очень многозначительным псевдонимом Савелий Октябрев внес издевательское предложение: для достижения полного равенства всех высоких людей поселить в горных районах, чтобы они не зазнавались, а всех низеньких разбросать по равнинам — там они почувствуют себя удовлетворенными.
Впрочем, деловые фанатики — не сатирики, они нашли решение попроще и порадикальней. У всех высовывающихся просто сносили головы — равенство было быстрым и полным. Я где-то читал, что Наполеон в итальянском походе сказал строптивому Жиро, будущему (после уяснения ситуации) своему маршалу:
— Генерал, вы ровно на голову выше меня. Но если вы будете со мной спорить, я уберу это различие.
Зиновьевская философия эпохи имела и чисто русскую окраску. Если не ошибаюсь, эти горестные, до боли точные строчки принадлежат Петру Чаадаеву:
Природа наша, точно, мерзость.
Смиренно плоские поля…
В России самая земля
Считает высоту за дерзость.
В маленьком мирке нашей профшколы зеркально отражались все социальные новинки общества.
У нас и в помине не было пылающих общественных дел. Понятно, что все мы переросли пионерский возраст — соответственно, отрядов в школе не существовало. Но и комсомольская ячейка, хоть и значилась, была почти незаметна. И самое главное: вольные общественные посты, конечно, наличествовали — энтузиазма не наблюдалось. Никто не стремился тратить время на ненужное и второстепенное.
Я не помню, была ли в профшколе ячейка МОПРа. Возможно, да, но позыв немедленно раздуть вселенский революционный пожар отсутствовал. Мировая революция уже не оживляла наши молодые души, И сам я, рьяный ее поборник, еще недавно призывавший Буденного немедленно двинуть конную армию на помощь закордонному рабочему классу и угнетенному крестьянству, даже не пытался отыскать в новой школе комнатушку с ребятами, занимавшимися настоятельным делом — разжиганием всемирного пожара.
В этом тоже сказывалась новая философия эпохи.
Учитывая мое выдающееся общественное усердие, подробно описанное в трудшкольной характеристике, на первом курсе профшколы меня избрали председателем культ-комиссии. Я твердо помню, что за год не провел ни одного нормального заседания с повесткой дня, зафиксированными прениями и завершающей резолюцией. Зато разразился неординарной акцией. Тогда много говорили о пьесе немца-революционера Эрнеста Толлера «Гоп-ля, мы живем!» Мне понравилось это детски жизнерадостное восклицание, и я уговорил директора вывесить его в школе — в качестве нашего боевого клича. Вскоре красноогненная надпись засияла на широкой полотняной ленте. Плакат из двух слов: «Мы живем!» — повис в вестибюле напротив входной двери. Те, которые видели его впервые, улыбались и удивлялись (и то, и другое — одобрительно): уж больно не похож был этот лозунг на обычные висячие призывы, требования и торжественные обещания. Плакат провисел на стене весь учебный год, вплоть до каникул.
Я очень им гордился, ибо он стал единственным моим общественным достижением. Имел ли я в следующем году какое-либо отношение к культ- или другим комиссиям — решительно не помню.
Уклонился я и от публичного участия в партийных дискуссиях, взмахами огненных крыл закруживших наши школьные головы. Собственно, чисто партийными они были только в 1925-м и 1926-м, когда не шли дальше съездов, пленумов ЦК и областных партконференций. Но уже с начала 1927 года они сплошь бушевали по стране, вовлекая в свой круговорот всех, кого хоть сколько-нибудь тревожило, куда мы идем и что со всеми нами будет.
В школе дискутировали и на переменах, и на общих комсомольских и партийных собраниях, проходивших в актовом зале. Споры были такими пламенными, что не не зажечься ими мог только тот, кто был непроходимо туп или нем от природы. Я не был немым и тупым — но ни разу не участвовал в дискуссиях. Причины были гораздо серьезней. Меня не удовлетворяла ни одна из сражающихся сторон. Я не мог тогда предложить собственной программы, а сведение счетов из-за несущественностей меня не привлекало. Если судить по темпераменту, я должен был рваться в бой, но не хотел махать кулаками без цели: игра (так я решил) не стоила свеч. Я иронизировал и над троцкистами, и над зиновьевцами, и над сталинцами, и даже над бухаринцами, которые все же были ближе остальных (Бухарин мне нравился). Друзья иногда говорили, что это на меня не похоже — возможно, но только на того, каким казался, а не каким реально был.
А бои разыгрывались страстные. В нашей школе заводилой был Леня Красный (он учился на параллельном курсе). Невысокий, порывистый, умный, великолепный оратор… Его было приятно слушать — даже если не вслушиваться. С ним нельзя было не соглашаться. Леня был, естественно, оппозиционером, а не «генералыциком». Так что наша школа поддержала оппозицию, а не «генеральную линию». Недолго, впрочем.
Сейчас я думаю, что у тогдашнего нашего вольнодумства были две причины (кроме, разумеется, Лениного красноречия). Во-первых, оппозиция была именно оппозицией. Она критиковала социальную реальность, требовала отторжений, осуждений и перемен — жажда новизны покоряет молодежь, еще ничего из наличествующей реальности твердо не усвоившую, но заранее требующую ее немедленного переустройства.