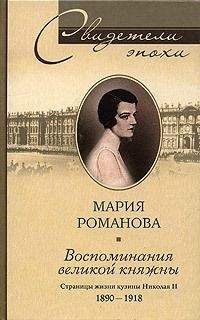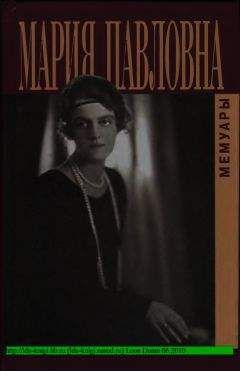После революции, следуя примеру других, он бросил работу и возвратился в Петроград вместе со своей женой, которая одно время была моей горничной в Пскове. То она, то ее муж постоянно приходили ко мне с угрозой выдать меня Совету под тем или иным предлогом; и все это в отместку за вполне заслуженное наказание, которому я его подвергла. В большинстве своем наши слуги, которые были с нами очень много лет и жили в доме вместе со своими семьями, стали теперь опасными врагами, готовыми причинить нам любой вред, который, как им казалось, даст им удовлетворение, или обогатит их, или порадует новых правителей. Мы не могли чувствовать себя в безопасности даже в своих личных комнатах. Недоброжелательные глаза и уши следили за каждым нашим движением, слушали каждое наше слово, казалось, читали наши мысли. Уволить кого-нибудь из них было невозможно, так как слуги образовали свой собственный домашний совет и выбрали председателя. Они постоянно присылали своих делегатов к генералу Лаймингу, требуя то одного, то другого, прекрасно зная, что больше нет денег, чтобы удовлетворить их требования. Продажа дома казалась единственным способом положить всему этому конец. Генерал Лайминг с нетерпением ждал того момента, когда бы мог со всем этим покончить.
Все это только небольшие зарисовки того, что происходило вокруг нас.
Те дни очень трудно описать. Все понятия, которые имели отношение к нашей прежней жизни, не имели больше никакого значения; и никакие слова, старые или новые, не могли выразить того хаоса, который теперь окружал нас. Язык был бессилен; мысль, связанная новой косноязычной речью, тоже словно притупилась.
Нервы мои были взвинчены; я постоянно дрожала за судьбу своих близких. Малейший шум казался подозрительным, от стука в дверь в мозгу с быстротой молнии вспыхивали отчетливые картины того, что может последовать за возможным обыском. Мне представлялась толпа солдат за дверью, жестокие лица, шарящие повсюду руки, грубые слова, отвратительные прикосновения. Мне представлялось, как меня арестовывают, как я покидаю дом и иду по улице под угрожающе нацеленными штыками, затем представлялось тюремное заключение без еды, сначала в каком-нибудь холодном и сыром подвале с крысами, затем в крепости, а затем…
Какой смысл вспоминать об этом сейчас, когда мысль о смерти приходит редко? Но все же и тогда надо было жить. Мы приобретали новые привычки; каждый спокойный миг ценился уже совсем по-другому. Существование само по себе, казалось, приобрело особенную ценность.
В течение нескольких военных лет из-за усвоенных мною более простых привычек я не очень страдала от материальных лишений, которые быстро становились все ощутимее. Однако мое воспитание было таково, что, несмотря на все эти лишения, я могла сохранять внешнее самообладание и уравновешенность. Только однажды, как я помню, впечатления от происходящего оказались сильнее меня.
Однажды вечером, в самом начале власти большевиков, мы с мужем решили пойти на балет. Раньше я никогда не входила в императорские театры иначе, чем через отдельный вход, и не садилась нигде, кроме царской ложи. Мне показалось интересным увидеть публику из зала, как частному лицу. Мы купили билеты и пошли. В то время никому бы и в голову не пришло специально одеваться в театр, так что и мы пошли в чем были.
Мы прибыли, когда спектакль уже начался. Во время первого антракта мы вышли в фойе. Театр был полон людей самого разного общественного положения. Помню, с самого начала меня поразил контраст между хорошо известной музыкой, спектаклем и необычным, странным видом публики.
Когда мы пробирались к своим местам, я взглянула вверх, – должно быть, в первый раз – и увидела ложу с правой стороны от сцены, которую с незапамятных времен всегда занимала царская семья. В обрамлении тяжелых шелковых драпировок в креслах с позолоченными спинками сидели несколько матросов в бескозырках на взлохмаченных головах, а с ними их дамы в шерстяных цветных платках. Учитывая все обстоятельства, в этом зрелище не было ничего необычного, и все же оно произвело на меня сильное впечатление. Мой взор затуманился; я почувствовала, что вот-вот упаду в обморок, и сжала руку мужа, который шел рядом. Больше я ничего не помню.
Я пришла в себя после тридцатиминутного обморока, первого и последнего в моей жизни, лежа на жесткой клеенчатой кушетке театрального лазарета. Надо мной склонилось незнакомое лицо врача, а комната была заполнена людьми, которые, вероятно, пришли поглазеть. У меня стучали зубы; меня всю трясло. Путятин завернул меня в одеяло и отвез домой, где я по-настоящему пришла в себя только на следующий день.
Когда дом на Невском был продан, мы сняли небольшую меблированную квартиру на Сергиевской улице и переехали туда. Прежний большой штат слуг заменили повар, горничная и ординарец, который выразил желание остаться на некоторое время. Денег у всех становилось все меньше и меньше. Доставка продовольствия очень быстро становилась беспорядочной, и цены стремительно взлетели. Распределяемые только по карточкам продукты были очень низкого качества. Приобрела огромный размах спекуляция; имея деньги, можно было купить очень много, но именно денег и недоставало. Бывали времена, когда у нас было их так мало в карманах, что мы не знали, что будем есть на следующий день.
Мы недолго прожили одни в нашей новой квартире. Родители мужа, которые провели несколько месяцев в Москве, были вынуждены вернуться в Петроград. Они стали жить с нами, и княгиня Путятина взяла на себя ведение домашнего хозяйства, что делалось с каждым месяцем все труднее и труднее. В начале зимы у нас оставалась только конина, но и она была редкостью. За непомерно высокую цену можно было купить белый хлеб, но это было незаконно, и наказание в случае, если это раскроется, было бы очень большим, поэтому мы покупали гречневую муку. Черный хлеб, который выдавали по карточкам во все меньших и меньших количествах, делали из муки, сначала смешанной с отрубями, а затем уже просто с опилками. Он был не только неприятен на вкус, но и опасен для здоровья. Сахара не было, мы использовали сахарин. Зимой мы ели главным образом капусту и картошку. Иногда в качестве особого угощения мать моего мужа делала лепешки из кофейной гущи.
Хотя я никогда не любила сладостей, теперь страдала от нехватки сахара. Разговоры между встретившимися на улице людьми или пришедшими навестить друзьями обычно вращались вокруг продуктов. Обменивались адресами спекулянтов, рецептами для приготовления блюд из самых необычных и неожиданных продуктов, а домашняя булочка, принесенная в подарок, вызывала больше радости, чем ценное ювелирное украшение. Я никогда не забуду пережитую мною радость от коробки с продуктами, посланную мне шведской королевской семьей, которая узнала о моем полуголодном существовании. Я до малейших деталей помню все ее содержимое и состояние почти священного восторга, с которым мы ее раскрывали.