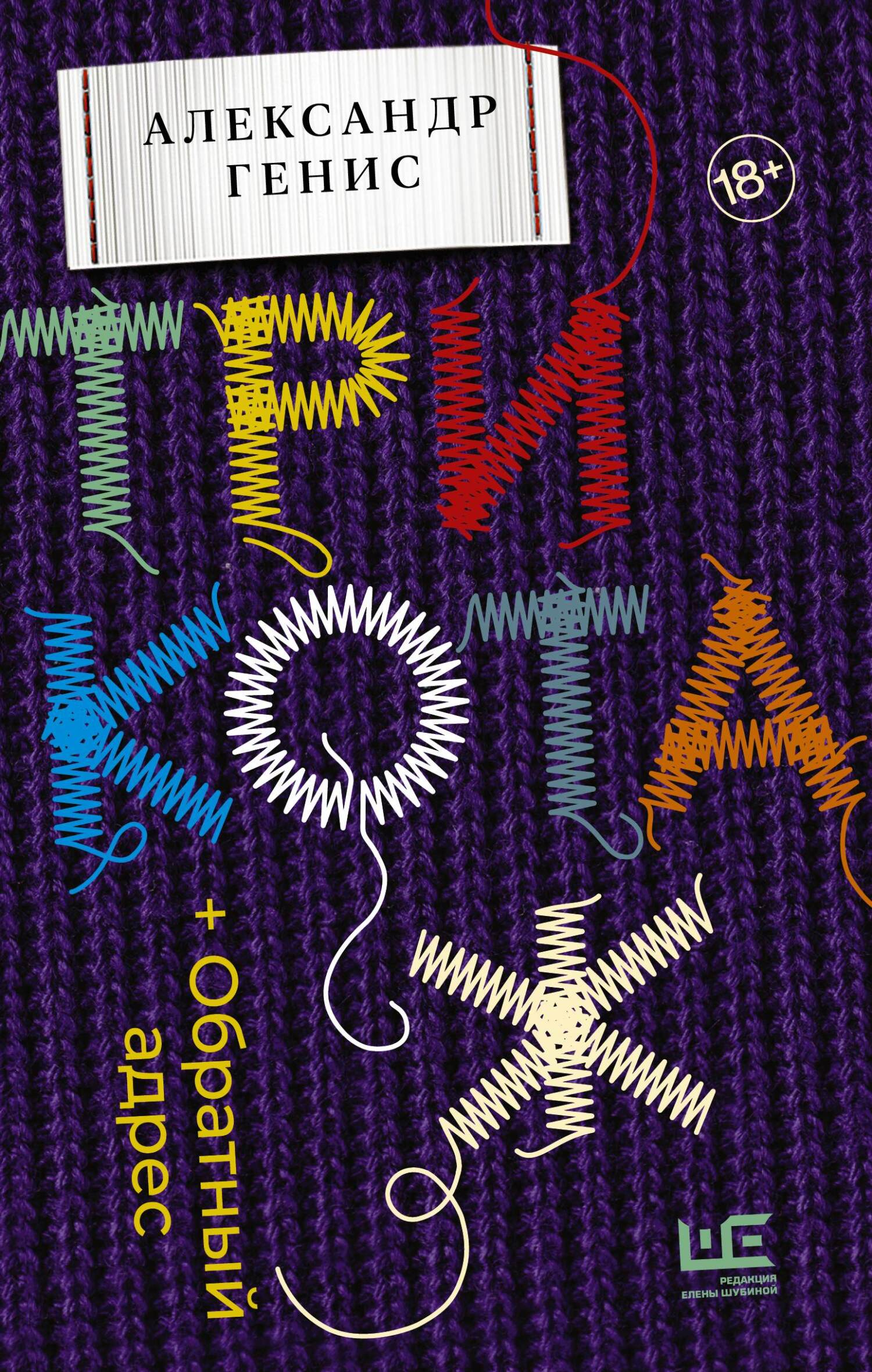меня разбудил звонок приятеля.
– Как дела? – спросил я, зевая.
– Дела? – вкрадчиво сказали в трубку. – Выгляни в окно, кретин.
Все еще не понимая, чего от меня хотят, я выскочил на набережную Гудзона, отделяющего наш дом от Нью-Йорка. Сперва я заметил только гурьбу растерянных на паркинге. Все смотрели на юг, многие снимали. Взглянув куда все, я увидел Близнецов. Они всегда были моими любимцами. С нашего берега пара башен выглядела так, будто завершала кавычками Манхэттен, и я не уставал любоваться этой цитатой. К тому же в них было что-то писательское: один небоскреб – небоскреб, два – гимн тиражу. Если, конечно, они не отличаются друг от друга. Но в то утро одну башню окутывал черный дым, а другую – белый. Когда оба столба дыма растаяли, исчезли и Близнецы. Ветер относил звуки в океан, и в тишине слышалась лишь скороговорка радио из открытой настежь машины. Остальное я досмотрел по телевизору. Репортаж из Даунтауна перемежался реакцией мира на происшедшее.
– В стране – паника, президент бежал, – сообщил московский корреспондент из Вашингтона, но я ему не поверил. Буш был на месте и читал детишкам про козу – девять минут, считая с того момента, когда ему сообщили о налете.
Вслед за погибшей архитектурой потянулся шлейф историй и слухов. Иногда – со счастливым концом.
– Коллега с восемьдесят третьего этажа, – рассказывали мне, – завел роман на стороне и вместо работы провел день со своей дамой в отеле с выключенным, естественно, телевизором. Домой вернулся как ни в чем не бывало и на вопрос жены, что на службе, сказал, что ничего нового. Жена, бедняга, и не знает, то ли радоваться, то ли разводиться.
– Характерно, – замечал другой мой знакомый, изучавший список жертв в “Нью-Йорк таймс”, – что ни одного еврея не погибло. Видимо, Моссад своих предупредил.
– А кто, по-твоему, – спрашивал я, взглянув на первые попавшиеся имена в газете, – Аронов и Берн- штейн?
– Понятия не имею, – ответил он, не смутившись.
– Пожарным, – волновался другой, – досталась тонна золота, которое расплавилось в ювелирных лавках с первых этажей.
Но в целом дураков было немного. На Юнион-сквер жгли свечи, приносили цветы, пели грустные песни и развешивали стихи и рисунки. Мемориальная выставка, перекочевавшая потом в музей, выросла на границе опасной зоны: южнее 14-й улицы никого не пускали. Воронки еще долго дымились, и спасатели носили респираторы, мы обходились марлевыми повязками.
Уже на следующий день все окрестные дома обклеили листовками, в которых спрашивалось, не знает ли кто о домашних животных, оставшихся без хозяев в запертых квартирах. Людям было не проще. Повсюду висели фотографии пропавших, о которых близкие всё еще надеялись что-то узнать от прохожих. Люди обычно снимаются, когда им хорошо. Поэтому на фотографиях все смеются. Старик позирует на слоне: отпуск в Индии. Молодые веселятся на свадьбе. Девушка вымазалась мороженым.
Когда надежды иссякли и пришла пора опознавать трупы с помощью ДНК, вдоль реки вырос палаточный городок экспертов. К нему выстроилась огромная очередь родственников. Они несли завернутые в пластик зубные щетки, расчески, тапочки, запасную челюсть.
В Близнецах погибли либо богатые, либо бедные. Первые – финансисты, воротилы, вторые – те, кто их обслуживал: официантки, швейцары, водопроводчики, лифтеры. Последние, впрочем, сразу остались без дела. На землю можно было попасть только по пожарным лестницам, а это значит крутые пролеты, тесные площадки, мелкие ступени. Подгоняемые дымом и страхом, люди спускались и с 46-го этажа, и с 89-го, а может, и со 107-го, где я как-то ужинал в ресторане “Окнами в мир”. До тротуара отсюда четверть мили, но по лестнице все спускались честным маршем. Никто не кричал, никого не давили, тут все были равны, кроме одной, парализованной. Оставшись без коляски, она, задерживая других, сползала на руках, пока ее не взвалил на плечи юноша пуэрториканской наружности. Он не назвал своего имени, то ли из скромности, то ли – нелегал.
На третью годовщину теракта в городе открылся виртуальный памятник Близнецам. В ночном небе могучие прожекторы выстраивали две белые, словно призраки, башни. Но вскоре световой мемориал отключили. Выяснилось, что он сбивает с толку перелетных птиц, которые уж точно не виновны в наших распрях.
3
После 11 сентября город изменился. Возле мостов зачем-то дежурили танки. На улицах появились солдаты. До этого я видел только одного, на экскурсии в Пентагоне, где он ловко шагал спиной вперед и смешно шутил, выбалтывая военные тайны.
11 сентября я, как обычно, собирался на студию “Радио Свобода”, но взрывная волна выбила стекла и в нашем небоскребе. Манхэттен задыхался от зверских пробок, зато небо было пустым и чистым. Над страной не летал ни один самолет, пожалуй, впервые с тех пор, как их изобрели. Поэтому когда я хотел послать рукопись московскому издателю, то на почте мне сказали, что через океан бандероль можно отправить только морем.
Вскоре все стало почти так, как было, и уже на следующий день моего товарища оштрафовали за нелегальную парковку. Недвижимость, на что я сдуру понадеялся, не упала в цене даже в оцепленных кварталах. Другое дело, что террор показал уязвимость Нью-Йорка, и за это я полюбил город как родной, особенно – Манхэттен.
Остальные боро растекаются по стране, теряясь в тусклых пригородах Квинса, тучных фермах Лонг-Айленда, волнах океана и лесах континентального Бронкса. Но Манхэттен, этот остров сокровищ, можно было охватить одним взглядом с крыши Близнецов или объехать за день на своих двоих. Лишенный одной радости, я увлекся другой, принявшись заново изучать город с седла велосипеда.
У меня их четыре. Горный – для гор, спортивный – для равнин, гибридный – для покупок и трехколесный – для жены, которая только на таком и умеет ездить. Я всегда любил велосипед за то, что с него дальше видно. Аристократ дороги, велосипедист, как мушкетер, меньше зависит от закона, позволяя себе катить навстречу машинам – “лососить”, как это называется в Нью-Йорке.
Объезжая Манхэттен по периметру, я крепил связавшие нас узы. В этом городе мне довелось жить дольше, чем в любом другом. Я видел его днем и ночью, зимой и летом, трезвым и пьяным, молодым и не очень. Но после 11 сентября у нас начался второй медовый месяц.
Первый, как это обычно и бывает, испортила неопытность. Сперва я не принял его старомодную нелепость и не оценил хвастливую, уместную только в Новом Свете эклектику. Чем лучше я узнавал Нью-Йорк, тем меньше понимал. Конечный и неисчерпаемый, как атом, он был начинен чудесами и с каждой встречей выглядел все более таинственным, словно