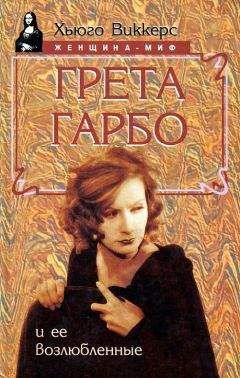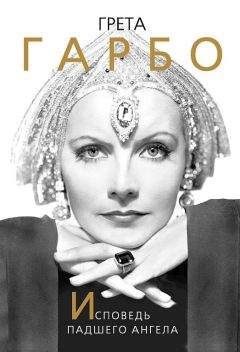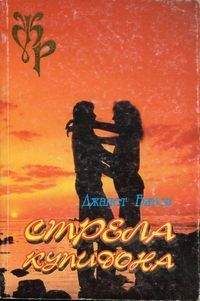«Я зол на нее, что она так и не проявила снисхождения к Мерседес, — писал он в сентябре 1968 года, — и не сомневаюсь, что никогда не дождусь от нее никакой помощи, даже если буду остро в том нуждаться. Вполне возможно, что я сам создаю себе ситуацию, в которой я смогу действовать дальше и навлечь на себя проклятье».
* * *
Сесиль закончил машинописный вариант летом 1967 года, а в январе 1968 подписал контракт с издательством «Вайзенфельд и Николсон». Вскоре уже была вычитана корректура, и в ноябре 1971 года в американскую прессу просочились первые выдержки из книги.
«Мак-Кол» опубликовал отрывок, который затем подхватил «Ньюсуик». Сесиль же пытался смириться с тем, что он «натворил» в своем дневнике. Эти строки можно назвать вышедшим из-под пера катарсисом;
«Возможно, если мне удастся хотя бы частично запечатлеть его на бумаге, я смогу вздохнуть свободнее и беззаботно доживу свой век. Надо сказать, что я ужасно страдаю от ужасных спазмов, от которых мои бедные кишки словно просят пощады, а весь живот нестерпимо болит. Уинди Лэмбтон, этот ангел во плоти, позвонила мне из Лондона — она сказала, что ей известно о моих страданиях, но я не должен ничего объяснять ей или жаловаться, а не то мне станет еще хуже вместо того, чтобы пойти на поправку. Теперь, после того как эта бомба взорвалась, все, чем я пытался утешить себя — все это семидневное чудо (в конечном итоге, что такое газетная статья?), — оказалось совершенно бесполезным. Я встревожен — и причем не на шутку. Я понимаю, что всего этого можно было бы избежать и я сам во всем виноват, но я решил проявить храбрость, а все остальное пусть катится к черту, но теперь я получил свое и никак не могу понять, как наилучшим образом выкинуть все это дело из головы. Если я буду и дальше заниматься садовой скульптурой, то создаваемая мною фигура станет воплощением моих переживаний, а если я возьмусь за кисть в студии, то все равно это станет выражением моего душевного состояния. Это такое чувство, которое часто не отпускало меня в ранние годы. Когда я опубликовал фотографию, которую, я знал, мне не следовало публиковать, в мой адрес сразу раздались возмущенные возгласы, и, господи, как я тогда переживал! Позднее, возможно потому, что я стал старше и осмотрительнее, подобные кризисы случались все реже — к моему величайшему облегчению, поскольку я уверен, что, несмотря на весь мой опыт общения с прессой, я стал еще более чувствителен и принимаю все слишком близко к сердцу. Ужасное чувство вины и тревога неотступно преследовали меня. У меня начались головные боли, и я чувствовал себя омерзительно. Я не мог уснуть, опасаясь, что стану терзать себя мыслями о каких-нибудь строчках из моего дневника в том виде, как их опубликовал «Мак-Кол», — что они обязательно оскорбят Грету или кого-нибудь из моих друзей. Затем, когда мне казалось, что волнение уже улеглось, я открыл номер «Телеграфа» и увидел фотографию, где были изображены я и Грета. Не может быть. В животе у меня все свело, и я опрометью бросился в уборную.
Еще немного новостей — правда, не таких печальных. Эйлин Хоуз (секретарь Битона с 1953 по 1980 год) позвонила мне рано утром. В прессе промелькнула одна очень хорошая новость.
Мне пожалован дворянский титул. Господи, только этого мне еще не хватало! У меня было такое чувство, будто мой бедный мозг не выдержит и взорвется. За эти последние дни чаша терпения оказалась переполненной. Разумеется, все это весьма приятно. В глубине души я всю свою жизнь лелеял надежду, что когда-нибудь удостоюсь такой чести. И хотя рыцари теперь не в таком почете, как прежде, тем не менее это большая награда, которой не грех и похвастать. И это вовсе не результат того, что у меня при дворе есть друзья (Вейденфильд с Уилсоном), или же проталкивания со стороны какой-нибудь крупной организации (например, Фред Энтон из Ковент Гардена). Нет, в данном случае это «заслуга одного человека». Как жаль, однако, что моя мать не дожила до этого известия, а также мои тетушки Кади и Джесси. Неожиданно я ощутил себя этаким важным старцем. И все равно, как это мило с их стороны — удостоить меня такой чести, и, как мне кажется, я вполне ее заслужил — и не только за мой талант — за стойкость, выдержку, упорство, за мои разносторонние начинания. И вот теперь, когда все это произошло (или все же они передумают из-за этой статьи о Гарбо), странно, как мало занимает мои мысли это свалившееся на меня высокое звание. День тянется как и обычно: время от времени я думаю: «Звучит внушительно», но затем мне приходят на ум другие «рыцари» — Редгрейв, Раттиган, Хелпмэнн, и я начинаю воспринимать все гораздо спокойнее. И все равно я счастлив — и должен постараться хорошенько его прочувствовать, как кульминацию долгих трудов, и вдобавок радоваться, что эта новость порадует еще не одного человека».
О посвящении Сесиля в рыцарское звание было объявлено 1 января 1972 года, и вскоре он был приглашен в Букингемский дворец, чтобы услышать новость уже из уст самой королевы. Последствия того дела оказались не столь радужными. С того самого момента, как Сесиль опубликовал свои откровения о Гарбо, он так и не был до конца уверен, что кое-кто из старых друзей не отвернется от него и вообще пожелает с ним еще знаться. Одной из тех, кто открыто выразил свое неодобрение, стала хозяйка яхты, Сесиль де Ротшильд. Во время тура «Connaissance des Arts» по северу Германии в мае 1972 года подруга Гарбо пошла в лобовую атаку.
«Позволь спросить тебя, сколько же ты заработал на Гарбо, публикуясь в «МакКоллз», «Таймс», «Огги» и прочих журналах? То есть сколько, вместе с фотографиями для «Вога», за последние двадцать лет?»
Сесиль попытался дать самый что ни на есть точный ответ. По его подсчетам, сумма составляла где-то четыре тысячи фунтов. Баронесса тотчас упрекнула его.
«Ну и как, неплохо? Я бы не отказалась получить четыре тысячи фунтов на мелкие расходы, — и она рассмеялась своим слегка гнусавым смехом. — Неплохо, а? Для кого-то, кто не нуждается в паблисити? Даже Стоковский не посмел продать газетам свою историю».
«Счастливые годы» вышли в Лондоне в июне, и поначалу Сесиль отказывался читать отклики. Как и следовало ожидать, за публикацией последовали разные домыслы, но вскоре обозреватели уловили суть того, что пытался сделать Сесиль: не столько похвастаться перед всем миром тем, что у него был роман с Гарбо, сколько нарисовать ее портрет, используя для этого свою удивительную наблюдательность. Из тех критических отзывов, которые были важны для него, следует выделить заметку Беверли Никольс и Сирила Конноли. Беверли Никольс писала в «Спектейторе»: «Это либо подлинная история, либо пустышка. Как мне кажется, она правдива от первой строчки до последней. Битон придал образу Гарбо новое измерение, значительно упрочив ее положение в истории нашего времени».