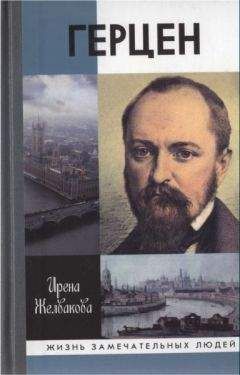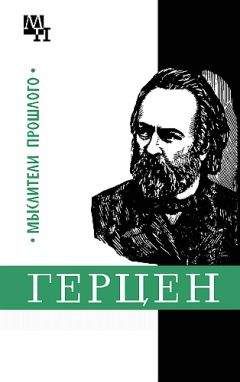Для Наташи Тучковой тоже — «это действительно странное и чудное время в Италии, сказочное», когда народ торжествовал свою победу, когда и Герцены, и Тучковы с упоением наслаждались свободой, а она, «дикарка», впитывала эту всеобщую радость и безграничную любовь ко всем — к отцу, к матери, к сестре, к Герцену и к его жене Натали.
Герцен многого не предвидел и не представлял. Взявшись за «Былое и думы», без конца повторял, как любила его Наташа младшую дочь Тучковых, называя ее именем героини Жорж Санд — Консуэла, «Consuelo di sua alma», «утешение моей души», а та отвечала ей страстной взаимностью.
Сверхромантическая дружба-любовь (предшествующая встрече Натальи Александровны с Гервегом) перехлестнула все границы, придала энергию и смысл существованию тридцатилетней матери семейства, судорожно искавшей выхода своим накопившимся эмоциям. «Я тебя люблю, влюблена в тебя…» — не раз повторяла младшей Натали в своей экстатической манере ее новая подруга. «Ни одна женщина не была любима так женщиной, как ты… В тебе, Natalie, только в тебе я нашла товарища, только такой ответ на мою любовь, как твоя, мог удовлетворить меня оттого, что я отдаюсь с увлечением, страстно».
Родители Натали не оставались в стороне от этих преувеличенных «увлечений и страстей» своей неуравновешенной, незаурядной дочери, с детства отличавшейся непокорным, «энергическим» характером, бескомпромиссностью и ничем не сдерживаемым свободолюбием, точнее сказать, своеволием. Презрение к «мещанским», общепринятым правилам поведения, эксцентричность поступков (почему бы юным сестрам ни надеть в Париже мужские костюмы, подобно неистовой Санд?), само собой, не могли вызвать особого восторга даже у такого вполне либерального человека, как их отец. Об экстравагантных наставлениях в письмах Натальи Герцен, этой «прелестной дамы» (по определению Тучкова), нечего и говорить. «Не пренебрегайте настоящим, будущего нет… есть только то, что есть». «Живите полнее, мои милые, живите, без оглядки», — наставляла она сестер Тучковых.
«День нашей разлуки с Т[учковы]ми… как-то особенно каркнул вороном в моей жизни; я и этот сторожевой крик пропустил без внимания, как сотни других, — размышлял позже Герцен. — Всякий человек, много испытавший, припомнит себе дни, часы, ряд едва заметных точек, с которых начинается перелом, с которых ветер тянет с другой стороны; эти знамения и предостережения вовсе не случайны. <…> Мы не замечаем эти психические приметы, смеемся над ними, как над просыпанной солонкой и потушенной свечой, потому что считаем себя несравненно независимее, нежели на деле, и гордо хотим сами управлять своею жизнию».
Но этой жизни — не только «общей», но и «частной», был уже предан иной поворот. 1849 год таил большие личные несчастья, еще не различимые в сутолоке быстротекущих дней.
Герцен не услышал, да и не мог услышать тогда, «каркнувший вороном» крик-предупреждение о своей дальнейшей судьбе. (Увлечение воодушевляющего времени было развенчано через несколько лет, когда камня на камне не осталось ни от упований на «общие» перемены, когда разлетелась прахом частная жизнь.)
«…Последними днями нашей жизни в Риме заключается светлая часть воспоминаний, начавшихся с детского пробуждения мысли…» — писал Герцен в «Былом и думах». «Сердечная память» об Италии так и осталась в мемуарах, хотя изящное итальянское сновидение длилось недолго. Сон, по образному слову Шекспира, должен был быть «убит». Его герой, «неумолимый Макбет», «заносил уже свою руку».
Оставалась надежда на республиканскую Францию. «С каким восторгом летел» он снова в Париж, «как было не верить в событие, от которого потряслась вся Европа».
Я слушая гром, набат, и не мог насмотреться на панораму Парижа, будто я с ним прощался…
А. И. Герцен. С того берега
Париж! Как долго имя это светило путеводной звездой. Как торжественно все начиналось.
Двадцать восьмого апреля 1848-го Герцен с семьей, наконец, на пути в революционный Париж. Он покидал Италию, «влюбленный в нее», но ему «казалось изменой всем… убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика». (Это уже позднее его признание в мемуарах, но нам-то известно, сколько времени прошло с тех пор, как Герцен узнал о событиях.)
Герцены добрались до Чивитта-Веккиа, а оттуда морем — до Ливорно (Ливурно). Александр Иванович — еще под оглушительным влиянием 24 февраля, когда, вступив на палубу парохода и увидев заветный вензель «R F», поддался «ребяческому увлеченью». Одушевление его не оставляло. Сердце билось как сумасшедшее… République Française. Французская республика живет…
Из Ливорно путешественники, несмотря на страстное желание Герцена поездить по Италии, вновь садятся на пароход, чтобы плыть в Марсель. Взбудораженный город встречал их трехцветными знаменами с привычными лозунгами Свободы, Равенства, Братства и толпами блузников, распевающих Марсельезу. От Марселя, как ни в чем не бывало, «веяло республикой». И это в то время, как Руан уже ответил страшным кровопролитием. Рабочее восстание, вызванное подтасованной победой крупной буржуазии в Учредительное собрание, было жестоко подавлено. Историки темы свидетельствуют: при военном усмирении возмущения с применением артиллерии было убито и ранено около ста рабочих, их жен и детей[89].
Пятого мая Герцены добрались, наконец, до французской столицы. Накануне, 4 мая, избранное Учредительное собрание начало свою деятельность с торжественной декларации, утвердившей Февральскую республику как форму правления во Франции. Но это была уже другая республика.
Париж сильно изменился с октября 1847 года. Герцен записал: «Меньше пышности, меньше щегольской чистоты, богатых экипажей — и больше народного движения на улицах; в воздухе носилось что-то резкое и возбужденное, со всех сторон веяло девяностыми годами». Приметой времени стала гениальная Рашель. Она явилась на сцене образом Франции с трехцветным знаменем в руке, поющей Марсельезу с отчаянной решимостью сопротивления врагам: «Вперед, дети Отчизны…» И Герцен, посетивший вместе с Анненковым и Тургеневым одно из ее выступлений в «Théâtre Français», присоединился к всеобщему ликованию.
Неограниченная свобода собраний и политических клубов, дарованная конституцией, Февральская республика… Восхищение «корифеями демократии» — А. Барбесом, «готовым отдать за республику последнюю каплю крови», и еще больше — «грозным трибуном Бланки»… Пережить все эти недолгие завоевания народа выпало на долю человека, случайно оказавшегося на дороге чужой истории, но он ее сделал своей. Герцен стал не только свидетелем грандиозных событий, но и участником их, сторонним, но все же участником. Потом, когда революция, как всякая из предшествовавших революций, потонула в крови тех, кто ее начинал — блузников, бедняков, пролетариев (слово это, в отличие от России, в Европе уже прижилось), сокрушался, «что не взял оружие», когда «его подавал работник за баррикадой».