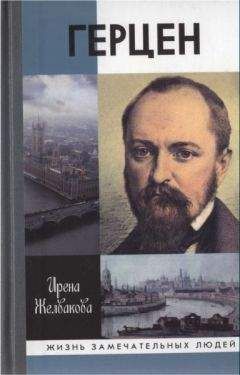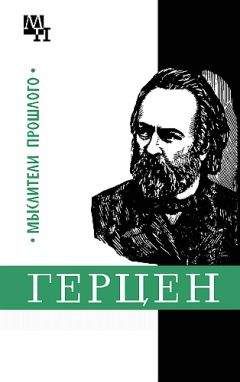Все менялось на глазах. События развивались по сценарию буржуазно-демократической революции. И Герцен прекрасно осознавал грядущие сдвиги, с детства интересуясь опытом Великой революции 1789 года. Книги (где «главное — история революции»), рассказы свидетелей-очевидцев, бывших солдат великой армии и беглецов от террора, давали ему уроки свободолюбия, стоившие «всяких субжонктивов», сослагательных наклонений, преподанных французскими гувернерами. Учителя всех мастей, наполнившие дворянскую Москву, не обошли и дом Яковлева (характерен образ француза, «террориста Бушо», с которым юный его ученик вел непозволительно смелые разговоры о правомерности казни короля: ведь он предал отечество). Революционная юность Франции 1789-го стала и его, Герцена, юностью. Свою сопричастность к историческому смыслу момента, с которым в его творчестве неизменно сопрягались «воспоминания великих событий, великих масс, великих людей 1789 и 1783», теперь, через полстолетия, он не мог не ощутить.
Герцен соотнес происшедшее во Франции с бурным проявлением природы. Так и назвал главы своих сочинений: «Перед грозой» и «После грозы» в главной, заветной своей публицистической книге «С того берега». Очерк «В грозу» составил одну из небольших главок будущих мемуаров — Тетради первой «Западных арабесок». За летопись непосредственных наблюдений, сиюминутные письма, он взялся, как только обустроился с детьми и Наташей возле любимых Елисейских Полей в бельэтаже дома Фенси, прежде нанятом для них Тучковыми. Надо было вглядеться в новый Париж. Понять его правоту, обманы и заблуждения.
После заголовка «Опять в Париже» — третьего цикла из четырех статей (истории революции и «истории реакции»), исключительно обращенных к друзьям (о печати в России не могло быть и речи), Герцен поставил первую дату — 1 июня 1848-го. С решительного начала событий, потрясших Францию, прошло более трех месяцев; до трагической развязки революции, расстрелов, разгрома баррикад и подавления восстания пролетариата в Париже оставалось 25 дней[90]. «Восхожденья новой жизни» не произошло. От прошлых романтических упований не осталось и следа.
Выразил Герцен увиденное, пережитое, прочувствованное, притронувшись к происходящему с оголенными нервами. Восторг, обольщение, надежды сменились злобой и негодованием. Писал сразу, с множеством вариаций, поворотов, с все усиливающимся эмоциональным накалом, не ослабевающим и в последующих трудах о потрясших его событиях. В значительно переработанном виде цикл статей «Опять в Париже» (рассматриваемый ныне в научных публикациях как «другая редакция») вошел в очерки — с девятого по одиннадцатый серии «Писем из Франции и Италии», но писался ярче, непосредственнее, с множеством необязательных, однако выразительных деталей, ушедших из более позднего цикла. Перед «Письмом девятым», закрепившим хронику революционных и контрреволюционных событий, автор поставил дату — 10 июня 1848-го.
Почти что со дня приезда в столицу Герцен — с утра до ночи на улице и видит все своими глазами. Каждый день меняет картину, и 15 мая 1848 года становится пределом его ожиданий. Что он увидел и что понял? Герцен отвечает:
«Пятнадцатого мая сняло с моих глаз повязку, даже места сомнению не осталось — революция побеждена, вслед за нею будет побеждена и республика. Трех полных месяцев не прошло с 24 февраля… а уж Франция напрашивается на рабство, свобода ей тягостна. <…>…я видел кровожадную готовность Национальной гвардии начать резню и торжественное шествие победоносного Ламартина и победоносного Ледрю-Роллена из ратуши (традиционного места провозглашения нового революционного правительства. — И. Ж.) в Собрание. Спасители отечества, из которых один под рукой помогал движению, а другой кокетничал с монархистами, ехали верхами без шляп, провожаемые благословениями буржуазии».
Учредительное собрание, избранное по введенному временным правительством всеобщему голосованию и утвердившее Францию республикой, тем не менее не решало первостепенных национальных задач. «Арифметическая» реформа предоставила большинство мест в Собрании крупным провинциальным буржуа. «Народ и республиканцы с негодованием и, краснея до ушей, смотрели на эти ограниченные лица, на эти скупые глаза проприетеров, на эти черты, искаженные любовью к барышу…» Герцен сокрушался: и вот этим собственникам-«стяжателям», лавочникам и торговцам была «отдана будущность» прекрасной Франции.
Попытка демократических клубов организовать 15 мая народную демонстрацию, чтобы защитить взывающую к помощи Франции восставшую Польшу и оказать давление на Собрание, которое распустить не удалось, закончилась крахом. «Собрание победило. Монархический принцип победил». «Республика ранена насмерть…» 150-тысячная манифестация, вылившаяся в неуправляемое народное половодье, цели не достигла. Попытки руководителей — Ледрю-Роллена и Луи Блана, избранных народом членов временного правительства, ввести происходящее в какие-либо рамки, успеха не принесли.
Репрессии усиливались, начались притеснения: тюрьмы наполнялись, законы ужесточались, уличные сборища были запрещены. Дополнительные выборы в Учредительное собрание 4 июня ничего не изменили, кроме демонстративного избрания известных социалистов Прудона и П. Леру. Развернувшиеся события заслонили лица. Париж вновь покрылся баррикадами.
Двадцать третьего июня началось вооруженное восстание. Лозунг парижского пролетариата — «Демократическая и социальная республика». И Герцен, прекрасно понимающий, куда заведет работников начавшееся противостояние готовой к отпору власти, тем не менее не может скрыть своей восторженной надежды. На Новом мосту он слышит громоподобный звон набата, призывающий народ к оружию, и вольно или невольно прощается с Парижем, еще не обагренным кровью. Видит строящуюся баррикаду на Place Maubert и в тот же вечер[91] из окна кафе на набережной Orçay наблюдает за колонной спешащих «на помощь порядку» «неуклюжих, плюгавых полумужиков и полулавочников, несколько навеселе, в скверных мундирах и старинных киверах», выкрикивающих: «Да здравствует Людовик Наполеон!»
«Этот зловещий крик, — вспомнит Герцен в „Былом и думах“, — я тут услышал в первый раз. Я не мог выдержать и, когда они поравнялись, закричал изо всех сил: „Да здравствует республика!“ Ближние к окну показали мне кулаки, офицер пробормотал какое-то ругательство, грозя шпагой; и долго еще слышался приветственный крик человеку, шедшему казнить половинную революцию, убить половинную республику…» Не пройдет и суток, как в столице будет учинен разгром защитников республики, прозвучат выстрелы и прольется первая кровь.