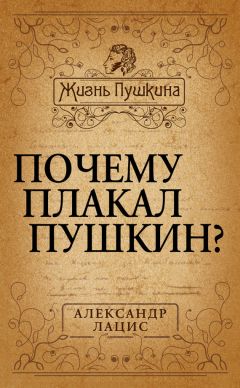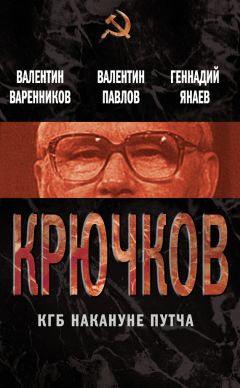Обывательское ханжество и конъюнктурная услужливость поддерживают царей, властей, толпу, народ в их общем стремлении как можно дальше отойти в сторону от непокорного поэта. В упор не видят оставленный им ключ. Его поединок с судьбой – вот о чем гласят исчерпывающие все «тайны» строки:
Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад.
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака,
И сквозь решетку, как зверка,
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров –
А крик товарищей моих
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
Не в отмену, не взамен перечня неблагоприятных обстоятельств приводим роковые строки. От них отмахивались. Комментаторы выдавали стихотворение за своего рода репортаж по случаю посещения душевнобольного поэта Константина Батюшкова. Однако после даты посещения – 3 апреля 1830 года – прошло несколько лет. Да и вся обстановка ни в чем не совпадает.
Для того и «вычислен» пушкинистами Батюшков, чтобы было к чему приурочить и тем умалить, приглушить трагическое стихотворение. Стало быть, не о Батюшкове речь – о себе, о Пушкине.
Сто лет назад, в 1900 году, было опубликовано письмо А. С. Хомякова к Н. М. Языкову от 1 февраля 1837 года. Его цитируют нечасто, да и неодобрительно. Оно не вписывается в картину приторного умиления.
«Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему очень хотелось рискнуть жизнию, чтоб разом от нее отделаться… Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться».
Сказанное Хомяковым – все правда. Но не вся правда. К скоплению вероятных причин приходится добавить еще одну: резкое ухудшение самочувствия. На наш взгляд, эта причина – главная.
Так или иначе, в конечном счете сбылось то, о чем Пушкин предупреждал будущую тещу, Наталию Ивановну Гончарову, 5 апреля 1830 года. Приводим текст в нашем переводе с французского. «Видит Бог, что я готов умереть за нее, но помереть лишь ради того, чтоб вдове блистательной и свободной дозволить на другой же день избрать некоего нового супруга – подобная мысль влечет в сущий ад».
Как понимать это письмо? Что в нем преобладает: предвидение или знание? Или стремление сбежать, отпугнуть, уклониться от брачного договора? Мнения возможны различные, и мы не вправе запрещать разноречивые суждения.
Современники поэта приметили и запомнили, что при одном упоминании имени Дантеса сильные судороги искажали лицо поэта.
Неудивительно, что очевидцы принимали повод за причину. В те времена курс нервных болезней не входил в набор общедоступных знаний… Но, скажут нам, В. Вересаев, М. Булгаков – профессиональные врачи. Оно все так, да только тут нужны не терапевты, а практикующие невропатологи…
Вот как описывается симптом, именуемый «микрография»: «Первые буквы могут быть обычной величины, но в дальнейшем они становятся все меньше и меньше».
Там же говорится о тиках, подергиваниях, судорогах. «В качестве провоцирующего фактора отмечаются сильные эмоциональные возбуждения».
Четкое представление о том, что такое микрография, может оказаться полезным, даже необходимым подспорьем в ходе текстологического разбора рукописей Пушкина. Кроме уточнения спорных датировок, наличие микрографии дает возможность «расслоить» текст, то есть определить последовательность записи, очередность появления вариантов, вставок и поправок.
В нашем случае подтверждается правило, установленное С. М. Бонди и сообщенное им в одной из наших бесед. Бонди никогда не начинал чтение с самого верха. Пушкин оставлял «чердак» свободным и добирался до него позже, когда не оставалось пространства в средней части листа.
Рассматриваемый нами текст, как обычно, начинался с крупных букв, с нынешней второй строки. После окончания всего фрагмента на «чердак» было вписано начало. Еще позже, то есть еще мельче, дважды прибавлено «только».
«Только революционная голова, подобно М. Ор/лову/ и П. Че/дае/ву» – позднейшая приписка. С чем связано ее появление? Пушкин не первый поставил рядом эти имена. Как раз в конце 1835 и в начале 1836 года московский литератор М. Загоскин выпустил в свет комедию «Недовольные». Вот комментарий из вышедшего недавно сборника «Пушкин и искусство», со стр. 607. «Суровый отзыв Пушкина напечатан не был. Он относится ко времени, когда Белинский… и другие критики резко осудили ретроградную драматургию Загоскина. Его комедия осмеивала Чаадаева и М. Орлова».
Доселе принятая датировка (например, в «Летописи жизни и творчества», т. 1) «июль – декабрь 1823 года» не просто произвольна – она невозможна.
Во время так называемого «духовного кризиса», то есть во время провозглашения в письмах и стихах отказа, отречения от вольнодумных увлечений, от заблуждений молодости, от пагубного влияния легкомысленных друзей Пушкин не мог утратить необходимую осторожность.
Сложите вместе: арест В. Раевского, отставка и опала М. Орлова, высылка из России графа Каподистриа, наконец, внезапное увольнение А. И. Тургенева (ему, кроме прочего, поставили в вину близкое знакомство с Пушкиным!). Вот когда поэту пришлось спешно вырывать страницы из рабочих тетрадей и заготовлять на случай обыска «благонадежные» стихи. Поэт не собирался отдавать в печать набросанные на скорую руку защитные ухищрения.
Не знаю, докопались ли до них полицейские чины. А поколения позднейших исследователей приняли вынужденные мнимые покаяния всерьез, усмотрели и провозгласили пресловутый «духовный кризис».
Непонимание замыслов поэта не могло не привести к множеству текстологических ошибок. Так, в незавершенном послании «Ты прав, мой друг…» читают и печатают:
И верил ей за чашей круговой
В часы веселий и свободы…
Однако Пушкин выражался куда осмотрительней. Вместо «верил» следует читать «И вторил ей…»
Не пора ли дозволить Пушкину поступать по своим правилам, по своим разумениям?
Что, например, приключилось после ноября 1836 года в январе 1837? Специалисты нагромоздили ворох версий – и ни одной убедительной.