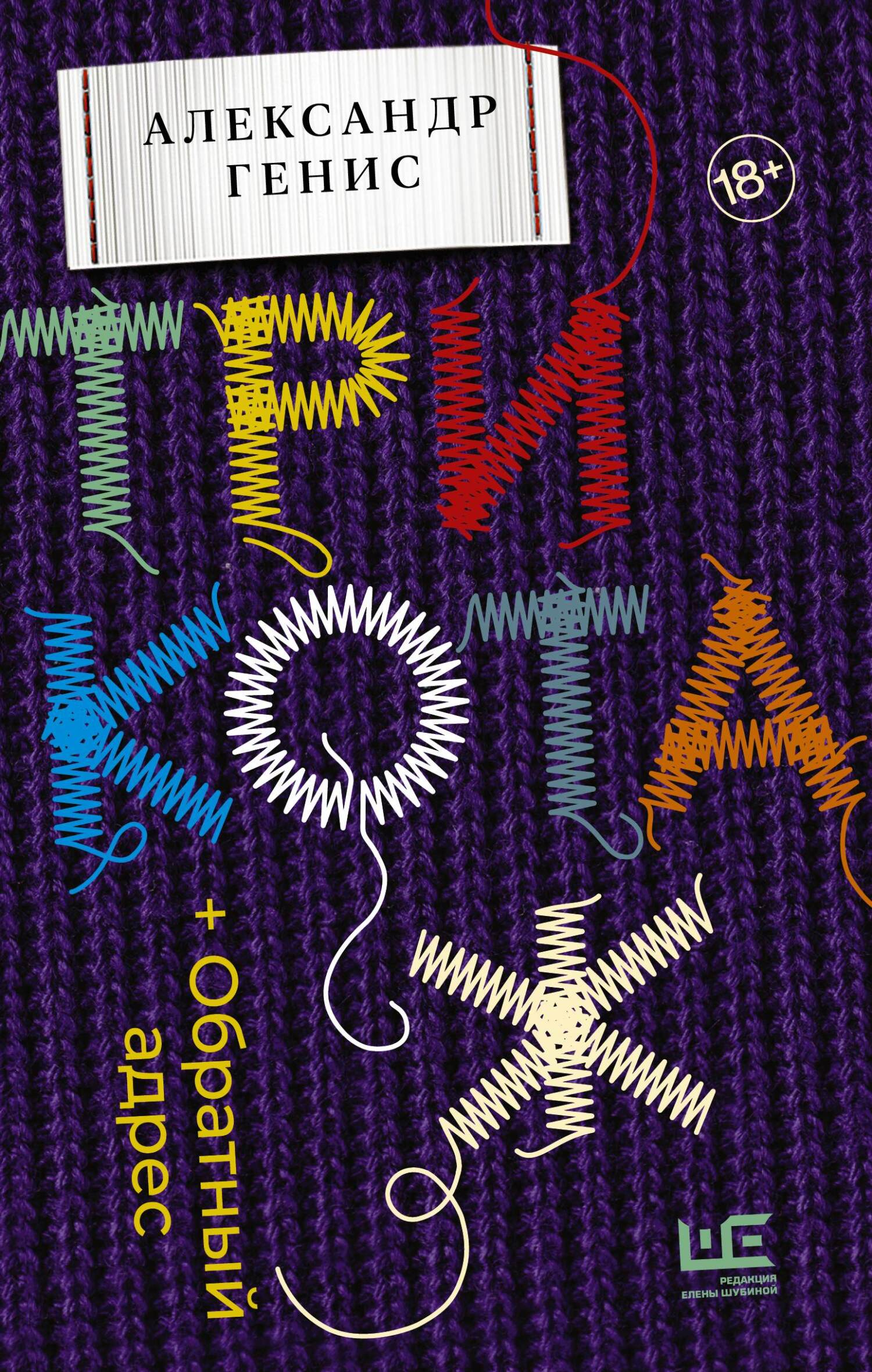кончилось, над мамой милосердно опустилась завеса. Она молилась пролетающим самолетам, забывала есть, делала вид, что читала, но еще три года – до самого конца – слушала любимую с юности бравурную классику: Листа, Грига, Рахманинова.
38. Глобус, или Метемпсихоз
1
О путешествиях я мечтал еще тогда, когда доступные мне средства транспорта ограничивались пригородной электричкой и трехколесным велосипедом. Но и в раннем детстве километровое расстояние между приморскими станциями приобретало тот истинный смысл, что преображает дорогу в приключение: дальше будет интереснее.
Мир рос вместе со мной, и я, освоив Дзинтари, где мы жили на казенной даче, открыл Дубулты. Раньше там отдыхал один Гончаров, потом – гурьба советских писателей в доме творчества. В Асари росла лучшая в мире клубника, попавшая за это в энциклопедию Брокгауза и Ефрона. Под Слокой жили цыгане, однажды съевшие выбросившегося на берег кита. В Кемери земной шар закруглялся, и электричка отправлялась обратно в Ригу.
Школьником я научился ездить на попутках – от Белого моря до Черного. Студентом уперся в западную границу на Карпатах. Эмигрантом преодолел ее и вошел во вкус.
Первой – разумеется, после Парижа – была Греция. Простодушно собрав каждый цент и не думая о том, что нас ждет дома, мы с женой отправились в путь, потому что другого выхода не было. Я выучил названия всех полисов, различал сорок девять видов греческих ваз и мог на салфетке нарисовать колонны трех ордеров и перечислить их элементы. Эллада оправдала вложенные в нее труды. И это несмотря на то что “метафора”, означавшая перевозку, красовалась на бортах грузовиков, “трапезой” назывался банк, газета – “эфемеридой”, а в Элевсине вместо мистерий обнаружилась авторемонтная мастерская. Научившись смотреть на настоящее, скосив глаза в прошлое, я мог так совмещать время, что одно просвечивало сквозь другое.
Всякая страна, – утверждала моя путевая теория, – палимпсест, позволяющий выбрать и разглядеть слой на выбор, вооружившись подходящей оптикой – и цветным зрением.
Его мне навязал диковинный журнал “Антураж”. Дитя гламурного угара, он явно жил не по средствам и держал в московской редакции мартышку по имени Машка. Ручная и ласковая, она залезла ко мне на колени и незаметно стянула с запястья часы. Возможно, так решался вопрос финансирования роскошного органа, каждый номер которого выходил в своем цвете. Я с радостью подчинился условиям игры.
Вериги, – обнаружил я на опыте, – не мешают, а помогают искусству – от футбола до любой словесности, но путевой – особенно. Обязательный элемент, словно намагниченный гвоздь, придает наглядную структуру опилкам дорожных впечатлений.
Пока “Антураж” не закрылся, я снабжал журнал цветными пейзажами, которые причудливо иллюстрировала жена. Она унаследовала от отца вкус к фотографии и, когда я не вмешивался, снимала окружающее симпатичным и нужного цвета. Иногда наш мир получался белым, как альпийский снег, иногда – черным, как тени в Нью-Йорке, иногда – пестрым, как туземные базары, иногда – золотым, как рыбка, иногда – серебряным, как иней в новогоднем лесу. Когда палитра кончилась, я дополнил галерею ожившими пейзажами: звериным, мужским, женским. После того как “Антураж” разорился, я выпустил “Книгу пейзажей” и продолжил полировать ритуалы странствий.
Заранее выбрав жертву своей неуемной любознательности, я месяцами в нее вживался. Путь начинался с истории, которая строила королей в династии и укладывала в колоду. Тут, почуяв жареное, моя душа открывалась наружу, и начиналось самое интересное. Готовясь к поездке в новую страну, я слушал ее музыку, читал ее авторов, готовил ее блюда, смотрел ее фильмы и узнавал ее мечты.
Тотальному погружению мешали не дававшиеся мне иностранные языки. Греческий разговорник, которым я из предусмотрительности запасся еще в СССР, предлагал спрашивать в афинском магазине, когда завезут сосиски, а у прохожих – как пройти в ЦК коммунистической партии. Японский словарь научил меня вежливой фразе “о-сева-нинаримашита”, которой я в Нарите оглушил таможенника, принявшего меня за шпиона.
Еще хуже обстояло дело с итальянским. Обследуя волшебный сапог от каблука к голенищу, я так часто по нему ездил, что мне пришла пора заговорить с местными. Готовясь к новой встрече, я взялся за убыстренный курс и три месяца повторял все, что мне говорил голос в наушниках.
“Buongiorno, – степенно начинал он, но тут же сворачивал на сторону, – что будет пить, bella ragazza, пиво, вино или сразу бренди? За столиком? Или в моем номере, где нам не будут мешать?”
Чувствуя, что учусь не тому, я все же закончил курс и отправился в Тоскану. Первый эксперимент прошел в супермаркете, где я собирался купить овсянку на завтрак.
– Avenа? – спросил я у кассира, найдя название злака в припасенном лексиконе.
Тот смешался и пошел за подмогой.
– Овес? – убедившись в том, что я настаиваю на этом товаре, переспросил хозяин. – У синьора есть лошадь?
2
Географические запои перетекали из одного в другой так плавно, что я почти всегда жил где-нибудь еще. Под постоянным напором из года в год глобус сжимался, и карта дробилась. Из одной только Югославии вышло шесть стран, и во всех меня печатали, включая последнюю – Черногорию. Она появилась буквально на моих глазах, и я первым купил ее почтовые марки. Свою маленькую, но гордую страну мне показывал (с вершины горы) такой же ерепенистый директор ее главного музея. Чтобы занять эту должность, ему пришлось заполнить анкету. В болезненной графе “национальность” он поставил “не колышет”.
Открыв для себя Балканы с их региональной смурью, я понял, что в моих путешествиях мне не хватает живых людей. Общаясь с покойниками и навещая руины, я обходился историей, но только местные могли ее оживить. Теперь я в каждой стране нахожу славистку и зову ее на обед. Надеясь сделать встречу взаимовыгодной, она начинает беседу с предмета своих занятий – с Достоевского, Петрушевской или Акунина, но я коварно перевожу разговор на сплетни и узнаю много нового. Злословие – бесценный источник мелких знаний.
– В Японии, – объяснили мне, – нет анти- семитизма, потому что все белые – на одно лицо.
– В Таиланде, – предупредили меня, – живут прирожденные дипломаты и перед дракой улыбаются.
– В Берлине, – сказали мне, – бывшие жители ГДР выключают компьютеры, выходя в туалет.
– Все евреи, – объявили мне в Израиле, – братья, которые делятся по престижу на сорок разрядов, когда выдают дочь замуж.
– Скандинавы, – предупредили меня шведы, – бойскауты Европы, кроме распутных датчан, простодушных норвежцев, диких исландцев и пьяных финнов, не являющихся скандинавами вовсе.
– Запомни, – учила меня англичанка, – шотландцы молчат, ирландцы пьют, а про валлийцев ничего не известно – они всегда поют.
– Каталонцы, – узнал я