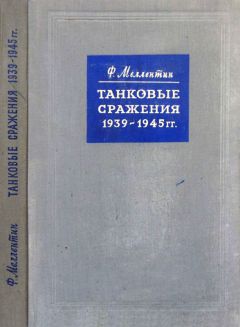Нас разделили только тогда, когда наша попытка совместного побега окончилась неудачей. Нас разделили не столько из-за того, что боялись новой попытки побега — нас смогли уличить только в намерении нашего поступка, но не в его осуществлении и неудачном конце первой попытки — а потому что в этом доме не могли терпеть никаких других отношений между людьми кроме взаимной измены. Только иногда я еще встречался с Эди, у душа в наполненной паром душевой с жирными стенами, при вызове в канцелярию, в палате лазарета, в церкви, в каптерке коменданта при замене испорченных предметов одежды. Всегда мы могли перекинуться только парой слов, робко и смущенно, так как мы оба чувствовали, насколько мы теперь снова были предоставлены власти мелких издевательств, бремени безвыходных лет, которые невообразимо лежали перед нами. Только по вечерам слабые звуки «Интернационала» проникали еще в мою новую камеру, которая лежала в другом строении, в темном коридоре, напротив корпуса одиночных камер, и была особенно защищена огромным висячим замком, ключ от которого был только у начальника охраны.
Если горечь первого года заключения в течение немногих недель счастливого согласия с человеком невытесняемо проявлялась снова и снова, то теперь притязание камеры со всей ее педантичной и измельчающей мощью поражало меня. Полностью враждебная любому господству уюта, камера обладала отрезвляющей силой, которая не терпела никаких составных частей внутри ее четырех изолированных стен. С первой секунды наступал процесс ассимиляции. Ни одна из вещей, у которых было свое место и предназначение в камере, не показывала даже следа собственной жизни. И словно каждый предмет своим голым, предназначенным только для одной своей цели видом подчеркивал характер камеры, как инструмента наказания, так и человек был как бы инвентарным объектом, голым номером без права, и без желания, и без воли. Превратившийся из субъекта в объект человек, без сомнения, был желанным продуктом камеры, на производство которого был беспрерывно нацелен весь этот порядок. Я не мог уклониться от этого рассчитанного воздействия, которое в некоторой степени влекло за собой определенный процесс разрушения.
Издавна у меня была особенная страсть к разрушению. Так я смог нащупать в ежедневной боли, пожалуй, удовольствие от наблюдения за тем, как постепенно уменьшалось хранилище быстро полученных представлений и ценностей чувств, как часть за частью измельчался арсенал, наполненный идеализмами и требованиями, как испарялись желания, сны и надежды, пока не оставалось ничего больше, кроме комка плоти с обнаженными нервами, которые подобно туго натянутым струнам теперь с жужжанием воспроизводили каждый потерянный звук, могли вдвое сильнее вибрировать в тонком воздухе изоляции. Я все больше ловил себя на странной мысли, какой милости я был предоставлен, чтобы испытать теперь и это, этот неповторимый процесс камеры, благодаря которому я снова узнавал в часы отдыха, что я не могу пасть, не найдя себя снова на том же самом месте
Так как бессознательная активность была теперь скованна в границах, из которых она могла только постепенно капать, не проливаясь, направляла свои стихии нападения против того же состава, из которого она родилась. Что не выдерживало испытания перед голой силой камеры, то я сначала с трудом, а потом все легче был склонен оценивать как сомнительную ценность и выбрасывать как балласт. Вместе с тем, однако, я осознанно осуществлял акт, который я легкомысленно достаточно часто совершал в течение безумных лет, как также все, что было тогда волнующим для меня, теперь, когда это в настоящий момент развития событий было скрыто и разорвано кружащейся очередностью напряжений и разрядок, оказывалось раскаленным, логичным в последовательности и полным донимающей настойчивости.
Я испытывал это вдвойне и с увеличенной силой. Часто я еще стоял, прислонившись к двери, когда первая бледно-серая полоса на небе наполняла камеру молочным светом. И я не мог останавливаться перед тусклыми тенями, которые появлялись посреди цветных, движущихся картин, от которых мое горло сжималось и пересыхало. Там еще было слишком много того, от чего мое стремление сводить каждое явление к его самому простому содержанию терпело неудачу, так как я чувствовал, что не могу облегчить это себе, без того, чтобы не потеряться окончательно.
Там была фотография друга, единственная фотография, которую оставил мне директор, когда он узнал, что ради нее я был готов к любому взрывоопасному мероприятию. Не было ни одной минуты бодрствования, в которой бы портрет с определенной долей обязательства не говорил бы ко мне, что исключало всякое бедное и дешевое чувство скорби. Друг был мертв, и я не смог последовать за ним, я прошел точку нуля, в которой он превратился в пламя в наивысшей ответственности своей воли, которая была волей к завершению, именно потому, что он в вихре самого безусловного уничтожения искал на ощупь далекие цели, из-за которых его действие для него и для многих еще обретало смысл. Как он смог бы вынести, что шагает в процессии униженных, как я мог бы вынести, что остаюсь там, где он нашел свой конец, который не был для него никаким иным концом, кроме конца его самого? И если смерть была завершением, продолжением воздействия и символом, напоминанием и необходимостью, если его смерть была всем, только одним она не была: искуплением. Что же оставалось нам, все же, нам, для которых, не в последнюю очередь, он умер, чем снова и снова стать такими, какими мы должны быть, и не можем и не хотим быть другими? Не было ничего, что могло разделить нас, и таким образом смерть в этой камере была единственным, что за пределами моего дня и сверх моего желания врывалось в те дали, из зоны которых возникала для меня сила, прибавлялась к моей силе и находила свое начало всегда там, где я приветствовал конец.
И потому я не боялся видений долгих ночных часов, в которых наряду с непреодолимыми глазами, которые смотрели на меня ежедневно, из темноты приходили те другие глаза. Я выскакивал из снов, когда они приходили ко мне, без угрозы стояли передо мной на загадочном, тонком лице. Я хотел появления этих глаз, ради твердости, с которой я отгонял их от себя. Я чувствовал здесь борьбу, которую нужно было перенести, на протяжении всей жизни, и которая должна была остаться без победы, если она должна была сохранить свою плодотворность. Часто у меня был в ухе звук мягкого голоса, голоса той медицинской сестры, прыгнувшей в машину к умирающему министру, и который тихими, запинающимися словами сообщал в пыльный воздух, что он еще раз раскрыл глаза и очень странно посмотрел на медсестру. Я знал эту непостижимость — она встречалась мне на полях, по которым мы бежали в атаку, оно лежало за полузакрытыми веками друзей, которые уходили в последний путь, это должно было заставить в башне замка друга Керна прикрыть израненного лоскутами холста. Я едва мог вынести это.