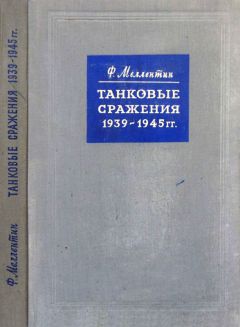И если страх проникал уже в маленькие мозги, которые теперь, застыв, смотрели пристальным взглядом на испарение их идола, как он должен был сначала вгрызаться в храмы, в которых гордо восседал этот идол? Жизнь никогда еще не терпела вакуума, она сама устраивается в пустых пространствах. То, что наступало теперь, думал я, поможет созреванию наших плодов. Дозорные восстания найдут чистое поле и найдут за собой толпы, которые насытят победу.
И эта победа, кажется, заявила о себе тем вечером первых дней ноября 1923 года, когда внезапно, после того, как патруль с громыхающими каблуками закончили обход коридора, голос Эди выкрикнул мое имя. Я подскочил к двери. Зов исходил из камеры напротив, и я ответил ему. И Эди кричал, он сидел в карцере, его попытка побега провалилась. Он кричал, что у него есть новость, и что, наконец, теперь это началось. Он кричал, что в Баварии что-то начиналось, и, конечно, товарищи уже готовы к бою.
Мы кричали друг другу через закрытые двери, по гулкому коридору. Мы оба были полны безумной надежды.
Мы спорили, прижав рот и ухо к железным дверям, о Марксе и Бисмарке, о массе и личности, о распределении и формировании, о мировой революции и восстании наций. Мы шумели хриплыми голосами, наполовину смеясь, наполовину гневно, обменивались оскорбления и, наконец, он с силой запел «Интернационал», и я запел в ответ песню бригады Эрхардта — пока охранники не начали колотить прикладами по дверям, и кричали что-то о рапорте и о карцере, и о том, что выбьют из нас эти причуды. Тогда мы трезво пожелали друг другу спокойной ночи, и я еще долго расхаживал по камере взад-вперед.
Охранники действительно подали рапорт. Но когда директор, мягко улыбаясь, сообщил, что он, все же, всегда желал мне добра, тогда я знал, что восстание началось, а когда три дня спустя он же грубым голосом сказал, что я самый упрямый заключенный, которого он видел за уже двадцать пять лет в тюрьме, тогда я знал, что восстание потерпело поражение.
Мастер производства, которого я однажды застукал, как он крал материал для рубашек из рабочих помещений, должен был подойти мне для того, чтобы установить через него тайную связь с товарищами. Так как к обязательным принципам всякого упорядоченного отбытия наказания относится суровое отстранение заключенного с целью нравственного очищения от пагубных влияний его прежнего окружения, мне было разрешено переписываться только с моими ближайшими родственниками. И каждый вопрос в моих письмах, и каждое сообщение в письмах мне, которое касалось вещей, которые в своей дальней действительности были ближе мне, чем действительность мелкого порядка, убирались, закрашивались чернилами или заклеивались. Потому я, не доставляя цензурных хлопот господину директору, отправлял за стены тюрьмы один срочный призыв за другим, но не получал никакого ответа, ничего не приходило мне в ответ, кроме полунамека между строками официальных писем, которые должны были дать мне надежду, к которой я вовсе не стремился.
То, что я наверняка скоро буду свободен, стояло в письмах, и что я должен иметь терпение, и наше дело добилось уже хороших успехов. Но я чувствовал в этих высказываниях сочувствие, и у меня не было применения для этого безвкусного и ненужного товара. В феврале 1924 года мастер зашел в мою камеру с подчеркивающей свою важность таинственностью, осторожно осмотрелся еще раз в коридоре, и потом быстро засунул мне под куртку закрытый конверт, который содержал пачку бумаги.
Это было незадолго до вечерней проверки, я бегал, прижимая письмо под жилетом, поспешно по камере взад и вперед, и едва надзиратель проскрипел свое «Спокойной ночи», едва щелкнула дверь, звякнули засовы, свет погас, как я бросился к окну, привязал зеркало к петлям сетки на решетке, так чтобы оно отражало луч света фонаря во дворе и бросало его маленьким квадратом на табуретку; я встал на колени, раскрыл конверт дрожащими руками, и читал: «… Когда французы оккупировали Рурскую область, группы были готовы. Мы считали провозглашение немцами пассивного сопротивления адской шуткой, не недостатком силы.
Но скоро мы заметили, что все распоряжения правительства исходили как раз из того сущностного содержания, для нападения на которое у нас была самая веская причина, так как без его уничтожения наши действия стали бы бессмысленными навсегда. Потому мы решили вести сопротивление так, как мы привыкли. Была перспектива с помощью нашей, все еще не умершей ни в одном сердце, идеи соответствующего действия увлечь все бодрствующие силы и людей и, таким образом, во все более горячем подъеме окончательно достичь изменения немецкой ситуации.
Нас была только горстка. Мы все знали друг друга. Из всей империи прибывали самые активные парни, неслыханная элита борцов, среди них самые дикие ребята, старые фронтовики и бойцы послевоенных боев, каждый из которых уже выдержал свое испытание. Там не нужно было много организовывать. У каждого дня было свое особенное задание, которое появлялось почти само по себе. Шлагетер говорил своим людям, приехавшим из В.С. по его зову: «Верхняя Силезия в сравнении с этим была чепухой». Мы под видом безработных верхнесилезских шахтеров бродили от одной шахты к другой, спрашивали, нет ли работы и, пользуясь случаем, крали взрывчатку. Мы проживали в рабочих бараках, в общежитиях для неженатых и в кабаках. Мы перевозили оружие и переправляли беженцев в империю через новую границу. Мы следили за шпионами, мы исполняли жестокое правосудие. Мы устраивали взрывы у Хюгеля и Калькума, на Юберруре, у Кёнигстееле и Дуйсбурга. Мы, нагруженные взрывчаткой, скользили по ночам вдоль путей железной дороги, убирали с дороги мешавших нам часовых, лежали за шпалами, и прожекторы своими лучами пытались нащупать наши неподвижные тела, мы на половину туловища прятались в воде, ныряли в кусты, и вели перестрелки с патрулями, мы долгие часы с нетерпением ожидали в засаде подходящего случая и прорывались через спешащие колонны, как только взрыв был осуществлен. Мы делали так, чтобы угольные эшелоны и товарные поезда сходили с рельсов, и потопили один пароход в канале Эмс-Дортмунда и в канале Рейн-Херне угольную баржу.
Я с Габриэлем как раз вернулся в Эссен — там, где канал через Эмшер входит в подмостовое ложе реки, мы взорвали к чертям эту штуку, перерезали подвод электричества к воротам шлюзов, и, таким образом, опустили уровень воды так, что канал перестал быть проходимым для транспортных судов, когда мы услышали, что диверсионный отряд Шлагетера провалился.
Из-за подрыва моста у Калькума полиция — немецкая полиция из Кайзерсверта — издала объявление о розыске Шлагетера. Это не было для нас неожиданным. Когда мы переходили границу, то немецкие власти гнались за нами так же усердно, как французские в районе борьбы. Были бургомистры, наши люди, которых немецкая полиция задерживала, обыскивала, и если у них находили оружие или взрывчатку, их арестовывали и передавали французам. Были команды немецкой жандармерии, которые рука об руку сотрудничали с французскими, чтобы ловить нас. Шлагетера французам выдали немцы. Его взяли, и вместе с ним Беккера, Задовски, Циммерманна и Вернера и еще двух других. Хауэнштайн был арестован немецкой полицией и посажен в тюрьму.