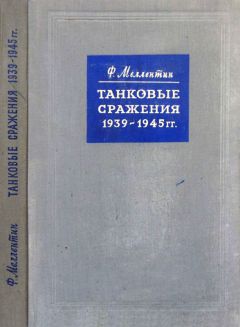Я едва выносил, что был обязан давать этим глазам ответ. Я мог взять ответ из немногих, вырвавшихся в запыхавшемся кашле фраз друга, рядом с которым умер этот человек, и друг умер возле него. Но у меня было только скудное, прорвавшееся, я не мог сказать то, что сформировалось в нем на долгом, непреклонном пути. Я был виновен, и даже больше, чем судьей или палачом, я хотел стать убийцей. Теперь мне ничего не оставалось, кроме как глухо сказать то, что глухо двигало меня, и взять для себя уверенность бедных часов из воли к ответу, первый аргумент которого всегда должен был звучать так: если это и была несправедливость, то она была нашей. Но к тем часам, когда за всеми сомнениями стояло отчаяние, которое могло засыпать каждую щель, появлялась отчужденность, которая должна была войти между человеком камеры и человеком дня; своеобразный вид гордости заставлял меня чувствовать эту отчужденность, гордость силы, гордость того, что я был отдан во власть силе, до которой не могли добраться другие. Мокрое от пота тело, измученный жаркими картинами мозг, сердце, в котором страсти и требования вели самые ожесточенные бои, все я испытывал в концентрированном виде. То, что во рту безразличного судьи звучало просто как пять лет, как промежуток между одной и другой датой, теперь это катилось вперед и назад в безумном подсчете. Я испугался, когда отсчитал эти пять лет назад в своей жизни: пять лет назад я был еще кадетом: шестиклассник, страдающий от голода на войне и гордый от достоинства королевской формы, маленький, бледный, хилый мальчик, с посредственными талантами, и, как и его товарищи, боявшийся, что война закончится раньше, чем он успеет попасть на нее. Невообразимо, что то же самое время, которое привело от той нереальной фигуры к заключенному, через безумные, напирающие на меня картины, теперь простиралось передо мной. Пять лет заключенный, пять лет, в которые мне нечего будет делать, кроме как ждать. И снаружи жизнь двигалась с поспешным пульсированием, друзьям предстояли задания, которые только и делают для нас эту жизнь настоящей.
Напирающее беспокойство страха из-за невозможности принимать участие при решении, заставляло искру биться о корку, когда из полунамека недоброжелательных охранников, после чтения изношенного газетного листа, который ветер заносил во двор, из сообщения в разрешенном каждые два месяца письме приходило лаконичное известие о том, что происходило снаружи. Тогда оно приходило к рассеянному в самом мрачном одиночестве как мерцание дальнего света марширующих колонн, объявляло ему, что связь еще не разорвана.
И это, как раз это резонансное колебание всех внутренних струн, которое происходило так далеко от центров внимания и независимо от веса фактов, способствовало высокой степени удовлетворения, которая позволяла мне воспринимать камеру как инструмент повышения переживания. То единство, за которое я выступал и в которое верил, еще не уволило меня со своей службы, и, без сомнения, никакая мысль, чувство и опыт, ничего, что формировалось теперь в стороне и под таким давлением, не могло быть без смысла и без более позднего значения. И так как я шаг за шагом продвигался с товарищами близкого прошлого, так как та же самая сила, которая вела их к прорыву, заставляла и меня теперь идти на других уровнях в том же направлении, то все, что бы ни происходило, не могло быть излиянием кучки одержимых, не могло пропасть ничего, что однажды действовало, не происходило ничего, чему не предопределено было произойти согласно недоступным пониманию законам. Все же, горько было осознавать мое особое положение, и ничто, с чем я встречался, не могло задушить желание участвовать в борьбе. Я хотел стать свободным, хотел вырваться из суровых стен проклятого дома, который связывал меня, который приказывал мне ждать, так как ожидание было единственным преступлением, которое могли совершить друзья, и я вместе с ними.
Запутанные письма оставляли мне достаточный простор для загадок. Время проходило, оно сжигало и пожирало то, что еще позволяло мне быть способным к действию. Год продвигался вперед, темп событий, которые были порождены нашим действием, был определен нашим действием. Я знал, что мельничный жернов беспрерывно настаивал на какое-либо движение, а я сидел здесь и надеялся, размышлял, тонул. Насколько длинным был день! Он при всей его монотонности был наполнен вихрем вспенивающей действительности, которая из затхлой тишины спасалась в сердце. Минуты свивались в длинные ленты, и если я измерял промежуток, который я уже прожил во власти камеры, и сравнивал его с тем, который еще ожидал меня, тогда я вполне мог испугаться, не обвиняя себя при этом в недостатке решительности.
Когда приходили письма, которые между строками сообщали о том, что стоило сообщить, я рассматривал марки, у которых каждый раз была другая надпечатка. Когда номинал почтовых марок возрастал от сотен тысяч к миллионам, от миллионов к миллиардам, я связывал удовольствие, которое я при этом чувствовал, с удовлетворением от наблюдения за испуганными охранниками, которые часто стояли, позванивая ключами, на дворе или в коридорах и рассматривали толстые портмоне, набитые кучей растрепанных банкнот, с выражением, в котором странно отражались опьянение, отчаяние и полное непонимание. Когда они говорили о чем-то, что нельзя было объяснить на служебном жаргоне, тогда они говорили об инфляции, слово и понятие, которое наверняка было понятно им значительно больше, чем мне.
Я пережил инфляцию только в ее первых, безвредных и технически объяснимых истоках. Теперь она, кажется, стала независимой, магической силой. У денег больше не было ценности? Превосходно! Господство числа демонстрировало пропасть его полной бессмысленности? Отлично!
Когда силы этого времени, после того, как они захватили все, что они могли захватить, ворвались теперь в своем безумном стремлении к экспансии в пустое пространство, в котором им не оставалось ничего другого, как атаковать и пожирать самих себя, как могло это демоническое поведение, этот, в конечном счете, полный надежд признак не обрадовать того, кто всегда отказывался подчиниться этим силам? Какое чудо, как я узнал, что цивилизованный мир опирался на гниющий труп, который он сам сначала создал, чтобы оторвать себе кусок добычи, а потом с заботой бросил его из-за чумного зловония и с угрозой требовал остановиться! Нужно было, размышлял я, и очень сердился из-за этого неопределенного «нужно» (кому именно нужно?), разнести очаг болезни по всем ветрам, не выпускать оружие из своих рук. Как, наконец, не было разрыхлено, что лежало под его толстой коркой?
И если страх проникал уже в маленькие мозги, которые теперь, застыв, смотрели пристальным взглядом на испарение их идола, как он должен был сначала вгрызаться в храмы, в которых гордо восседал этот идол? Жизнь никогда еще не терпела вакуума, она сама устраивается в пустых пространствах. То, что наступало теперь, думал я, поможет созреванию наших плодов. Дозорные восстания найдут чистое поле и найдут за собой толпы, которые насытят победу.