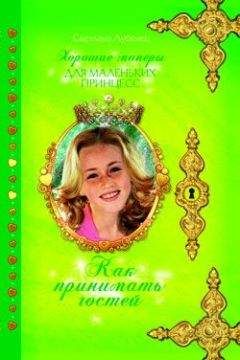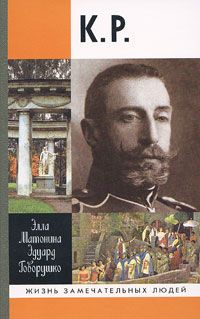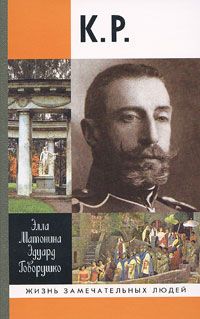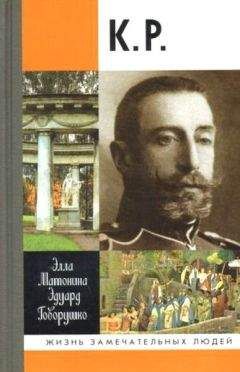подпишет мира, пока хоть один француз будет на русской земле. Что касается имущества, мебели, удобств и красот – смешно их ожидать, когда ты идешь грабить чужой дом. Слава богу, мой отец генерал Ла Гранж, кажется, был человеком с трезвой головой, он понимал, что на войне как на войне.
– Вы слишком защищаете Россию. Боюсь, главные державы ее осудят и выступят против нее.
– Я вырос в России и кое-что читал об истории народа. Особенно меня интересовали наполеоновские войны, в которых участвовал мой отец. Французские авторы словно брали реванш за проигранную войну – столько глупого написали о русских: якобы находящихся во власти примитивных добродетелей и ощущений, в узком круге мыслей, потребностей, желаний, идей. Недаром просвещенные завоеватели называли русских идолопоклонниками без духа, интеллекта, нравственности, с грубым пониманием жизни.
Но я с юмором отнесся к этим писаниям и успокоился. Во-первых, я знаю о России больше, я в ней живу. А во-вторых, оказывается, ваш отец и о поляках говорил плохо. Очень плохо. Если бы только говорил, а то ведь и делал плохо. Вступив в Вильно, Наполеон мог открыто объявить об освобождении Польши. Но он даже юг страны не очистил от русских. В голове у него было другое – примириться с русским царем при первой же победе, а за примирение платить по счетам пришлось бы герцогству Варшавскому. Спрашивается, почему поляки и сегодня попались на удочку подстрекательств? Повстанцы увлеклись так, что даже деньги стали свои чеканить.
Ла Гранж полез в карман и достал медную монету в три гроша:
– Хотите?
Валевский рассмеялся:
– Стасины блины остыли.
Он расправил свою странную одежду и позвал Ла Гранжа за стол.
– Нет, я ухожу, – сказал Людвиг, посмотрев не на Валевского, а на Стаею. – Для меня все было неожиданно.
– Два француза в нашей глуши, я подумала… – пробормотала Стася.
– Послушайте, Ла Гранж, – перебил Стаею Валевский. – Как бы ни повернулись сейчас события, я возвращаюсь в Париж. Конечно, тайно. Вы – Ла Гранж, француз, и даже не с примесью польской крови, как я, а совсем нейтральной, итальянской. Предлагаю один со мной путь и полезную для Франции карьеру. Вам, сыну наполеоновского генерала, нельзя изменять французскому императору и своему отцу. Я дам знать о себе, а вы примите решение. Сейчас мне предстоит поездка в Лондон. Польское повстанческое правительство поручило провести переговоры о дальнейшей судьбе Польши. До свиданья! Не всегда вас было приятно слушать, но полезно.
…Ла Гранж был обескуражен, зол на себя и нервно настроен. Имел ли он право на все, что произошло? Стася ни о чем не спросила и не предупредила, сознательно или не сознавая опасности и недозволенности? И вдруг выплыли слова Ва-левского о поездке в Лондон на переговоры. Но при чем здесь Англия? Наполеон ее ненавидел. Она ненавидела его. Английская армия его уничтожила. Английское правительство сослало его на остров смерти, приставило к нему генерала-цербера, который укоротил его жизнь… Неужели Валевский это забыл? Здесь что-то не то…
Ла Гранж увидел дом пани Ядвиги, вздохнул и, войдя в дверь, крикнул ей, что он дома. Она стояла у чайного стола, явно ожидая его с добрым любопытством, и неожиданно Людвиг подумал, что поляки и русские просто и честно в конце концов выяснят свои отношения.
Ла Гранж был задет, раздражен высокомерием Валевского и в то же время заинтригован. Но предстоящий поход на Варшаву – трудная работа – помог ему освободиться и даже застыдиться своих малейших сомнений.
Рано утром Ла Гранж с отрядом под командованием князя Хилкова двинулся к Варшаве.
Где могилы отца и матери?
Слухи о том, что приступ Варшавы начнется 25 августа, подтвердились. Об этом сообщил Жигалин, вернувшийся вместе с Дохтуровым из штаба поздно вечером. В ротах, батальонах, эскадронах все с нетерпением ждали этого. Долгое стояние военного человека в бездействии не только расхолаживало, но создавало внутреннее нервозное напряжение, при котором истончается воля и твердость.
Жигалин, как энергичный и деятельный эскадронный командир, в тот же вечер устроил смотр, с придирчивой дотошностью проверив снаряжение, довольствие, фураж. Предстоящее дело он считал серьезным и не скрывал этого от своих гусар.
– Будет жарко, – сказал он коротко перед строем и объяснил план предполагавшегося дела. – Намечается, что пехота первой пойдет в атаку, она завяжет бой, внесет сомнения в ряды противника, а за ней и мы пойдем, на прорыв…
Слухи о том, что поляки приняли предложение командующего русскими войсками фельдмаршала Паскевича сложить оружие, не подтвердились. С бессмысленным высокомерием генерал Круковецкий опять заявил о непременном желании «восстановить отечество в древних пределах».
Перчатка была брошена.
С вечера 24 августа русские войска согласно диспозиции, разработанной Главным штабом, заняли свои места. Князь Хилков получил задание обеспечить своим отрядом левое крыло армии. В его составе находилось 2800 единиц кавалерии. Правее расположился корпус Палена, нацеленный на штурм самого сильного, самого укрепленного редута варшавской обороны «Воля». Для поддержки Палена на этом направлении князь Хилков с большим сожалением отдал эскадрон Жигалина, проявивший храбрость в предыдущих сражениях.
Поляки готовились отчаянно защищать столицу. Три линии обороны окружили город, на одну-две версты от первого заграждения были вынесены укрепленные пункты. В систему оборонительных сооружений вошли: городской вал, когда-то возведенный для борьбы с контрабандой, казармы, соединенные в баррикады, внутри города соорудили редуты, поставили рогатки.
Крепким орешком для русских должен был стать редут «Воля», окруженный глубоким рвом с так называемыми волчьими ямами – углублениями в половину человеческого роста с воткнутыми туда кольями. Внутри редута находился костел с каменной стеной в два с половиной метра высоты.
В ночь перед выходом на позиции из Главного штаба было прислано невероятное по своей несуразности распоряжение: переодеть солдат в мундиры.
– Мы что, на Царицын Луг собираемся?! – гудели интенданты, недовольные свалившимся бессмысленным делом, да еще ночью!
Дело бессмысленным не было: форма польских полков мало чем отличалась от русской формы: в горячке боя можно было перебить и своих.
…Людвигу хорошо был виден костел с колокольней, упирающейся в самую середину встающего на востоке солнечного шара. Совсем рассвело, и все яснее и яснее вырисовывались очертания редута, напоминавшего издали средневековый бастион. В утренней дымке зеленела густая рощица с приземистыми деревьями, грязный и мрачный земляной бруствер без единой травинки – новодел, дальше с трудом различалось громоздкое и высокое сооружение – то ли стена, то ли баррикада.
До редута было саженей триста – ровное, тронутое осенней желтизной пространство. Который раз оно, это пространство, возникает перед Людвигом в этой