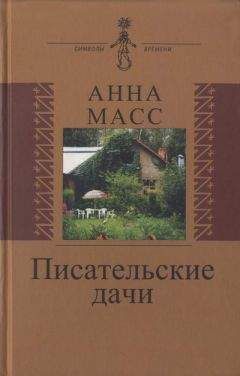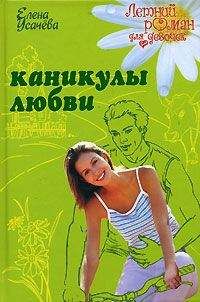— Садись. Вот, попробуй кулич. А яйца — это мне в театре подарили, правда, какой нежный цвет? Я люблю пасху, красивый праздник, правда?
… Она рассматривает через большую лупу фотографии, которые достает из рассохшейся, темного дерева шкатулки.
— А я тут сижу и… погружаюсь. Вот, посмотри, это я в роли Марион Делорм… А это я — в фильме «Поколение победителей» с Борисом Щукиным… А вот это… Вот она! Я как раз ее и хотела тебе показать. Такой ни у кого нет. Узнаешь? Павлик Антокольский, двадцатый год. Год моего поступления в студию Вахтангова. Я из Харькова тогда приехала. У нас там была своя театральная студия. И Вахтангова я в первый раз увидела в Харькове. Художественный театр приехал на гастроли, привез «Сверчок на печи». Евгений Багратионович изумительно играл Текльтона… На следующий день после спектакля я и еще два студийца пришли к Вахтангову в гостиницу и попросили, чтобы он провел у нас несколько занятий. И он согласился. А потом, когда театр уезжал, он мне сказал: приезжайте в Москву, к нам.
И вот я приехала держать экзамен. Волнуюсь — страшно. Всё как сквозь туман. И только одни глаза — черные, необыкновенные, горящие — были мне как спасительный маяк. Глаза Павлика Антокольского. Он сидел рядом с Евгением Багратионовичем. Я читала Ахматову — «Сжала руки под темной вуалью…», Северянина — «Я так тебя люблю…». Потом меня окружили Завадский, Захава, еще какие-то молодые люди, я была так счастлива…
А потом — занятия с Вахтанговым… Это было что-то колдовское, мы благоговели перед Евгением Багратионовичем. Это был чистейший, кристальный человек. Как он бережно растил индивидуальность каждого студийца — и актерскую и человеческую…
А Павлик… Он врывался в аскетическую атмосферу нашей студии, как… фейерверк! Фонтан фантазии бил и бил, как будто это не человек, а божество, которому дан такой дар волшебный. Я его первое время стеснялась, ну, во-первых, он был старше на несколько лет, а потом, он был уже в руководстве студии, Вахтангов относился к нему как к равному, советовался с ним.
А вот с Зоей Бажановой мы сразу подружились. Она была прелестная, тоненькая, светлая, как статуэтка, изящная. Уже все знали, что они влюблены друг в друга. Это была зима 21 года. Голод, холод, одевались кто во что, но ведь не этим жили! Нас это не волновало, кто во что одет, а нас волновало, как придумать этюд, чтобы он понравился Евгению Багратионовичу.
…Подожди, я тебе сейчас что-то покажу. Вот. Это — первая книжка стихов Павлика Антокольского. Всё, что у него выходило, он мне дарил. Он мне всю жизнь как брат. Добрый, заботливый брат. Он ведь, несмотря на его вечные устремления поэтические куда-то от мира сего, был добрейшим человеком. И Зоя. Мы во время войны почти одним хозяйством жили. То Варя прибежит одолжить что-нибудь из еды — вечно не хватало еды, то меня зовут к себе обедать. То у них испортились батареи — они ко мне переселяются. Павлик в Катюшиной комнате работал.
Вдруг осенью 42-го прибежал, взволнованный:
— Маша, Вова приехал!
Володя тогда с учений приехал из Алма-Аты и на следующий день уезжал на фронт. А у меня на балконе еще осталось несколько цветочков. Я их сорвала и поставила в рюмочку перед Вовиным прибором. Павлик потом вспоминал эти цветы, когда Вова погиб…
…А это — одна из самых дорогих моих реликвий, осторожно, не порви, это мне Павлик написал ко дню моего рождения, 10 сентября 59 года.
Она разворачивает ветхий, сложенный вчетверо, листок бумаги и читает — как рассказывает, без пафоса, едва слышно, и только спазм временами сжимает ее горло:
О, как я помню,
как я помню
Тот юношеский день —
Передо мной
На сцене темной
Твоя возникла тень.
Стройна, смугла,
с горячим взглядом,
В лохмотьях огневых,
Она возникла где-то
рядом,
Как возникает вихрь.
Рисунок роли,
смутный образ,
Вошедший в жизнь и быт,
Он был затвержен,
был разобран,
И сыгран, и забыт.
Потом пошли
другие роли,
Удачи и дела.
Тебя года
не побороли,
Ты умницей была!
Ты той же умницей осталась,
Я вижу по всему.
А что такое значит
старость,
И сам я не пойму!
И я тебе слагаю, Маша,
Хвалу не в юбилей.
Ты краше молодости,
краше
Всех сыгранных ролей!
Тут вся наша молодость, в этом стихотворении. Сколько было горения, сколько счастливых минут, боже мой!
В жизни, в быту он до семидесяти лет оставался единственным ребенком, Павликом, Павличком. Его миром были поэзия, книги, друзья, Зоя.
Нет, оказалось, сначала Зоя, а потом все остальное. Потому что когда в ночь под новый 1969 год неожиданно умерла Зоя — жена, муза, нянька, защитница, — тут же рухнул весь его привычный мир. Вместо Зои в его жизнь прочно вошла пятидесятилетняя Кипса. Добрая, жизнелюбивая и в своей доброте деспотичная, она по-своему любила отца, но если у Зои был только Павлик, то у дочери были свои дети, внуки, и отцу было решительно отказано в той первой, главной роли, к которой он привык за полвека. Она всё перекроила на свой лад.
Кипучая — отцовская — энергия дочери требовала действия. Красивый, ухоженный дом постепенно превращался в большой сарай, где ворохами лежала детская одежда вперемешку с игрушками, горшками и посудой, на спинках павловских стульев висели мокрые детские колготки, а по перекосившимся старинным гравюрам ползали рыжие тараканы. И, как пчелы по ячейкам, расселилась по комнатам многочисленная семья Кипсы — Андрей с новой женой и детьми, Катя с мужем, их дети, старая бабушка — мать Кипсы, всегда грустный мальчик Денис, сын Милочки, которого Кипса брала на все лето на дачу. Сама Кипса была как царица этого улья, одновременно сердечная и властная, безалаберная и открытая, обладающая вопреки тяжелому нездоровью — она была непомерно толста, слепа на один глаз, у нее был сахарный диабет, полиартрит — редкостным оптимизмом и удивительным, подчиняющим всех, кто ее близко знал, обаянием. Муж давно ее оставил ради другой женщины, а потом трагически погиб, упав или выбросившись в сильном опьянении из окна с высокого этажа.
Дряхлеющему поэту, которому стало трудно подниматься по лестнице в свой кабинет, досталась маленькая комнатка внизу. Там помещались узкая тахта, школьный письменный стол, стул и синяя табуретка. А его бывший, такой продуманно уютный кабинет превратился в склад, где копились разбитые старинные настольные лампы, спинки от резных кресел, рукописи, трубки, редчайшие книги. Здесь же кучей лежали осиротевшие Зоины Горгоны и Демоны. На их деревянных лицах было написано трагическое предчувствие скорой гибели: семья разрасталась, ей требовалась жилплощадь. Предчувствие их не обманывало: вскоре после смерти Павлика все Зоины скульптуры были сожжены на костре. Остались только те, которые Зоя при жизни успела подарить друзьям. У нас хранятся две: «голова пана» и фигура сказочного лесного зверя.